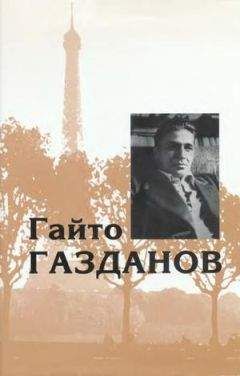После того как союзные войска освободили Париж в 1944 году, французские власти занялись вопросом о тех русских эмигрантах, которые во время оккупации сотрудничали с немцами. Они обратились к Маклакову с просьбой помочь им выяснить, насколько того или иного эмигранта следовало считать виновным в очень неблаговидном, мягко говоря, поведении. Маклаков ответил, что у него на это нет времени, и посоветовал обратиться к его близкому другу, Тер-Погосьяну. И Михаил Матвеевич стал, таким образом, чем-то вроде арбитра в этих вопросах. И вот, в числе тех, кто рисковал попасть в тюрьму и под суд за сотрудничество с оккупационными властями, был один третьестепенный литератор, которого до войны нигде не печатали – его книги выходили, кажется, только в Китае на русском языке. Когда в Париже открылась газета «Парижский Вестник», которую субсидировали немцы, там стали появляться статьи этого человека под такими заглавиями, как «Налет англо-американских бандитов на завод Рено» и другие в том же роде. В «Парижском Вестнике» он сотрудничал до конца оккупации. Когда союзные войска заняли Париж, он заперся у себя в квартире и боялся выходить. И вот, Михаила Матвеевича спросили, как, по его мнению, следует поступить с этим человеком:
– Арестовать? Судить?
– Оставьте его в покое, – сказал Тер-Погосьян. – Он не отвечает за свои поступки. Никакое наказание, которому вы его могли бы подвергнуть, не сравнится по своей жестокости с тем, как поступила с ним судьба – более беспощадно, чем любое человеческое правосудие: она сделала его неудачником.
И благодаря заступничеству М<ихаила> М<атвеевича> этого человека не тронули, и он, вероятно, до конца своих дней не знал, кому был обязан тем, что его не посадили в тюрьму.
Во время войны и оккупации М<ихаил> М<атвеевич> был больше занят, чем когда бы то ни было. Чаще всего в эти времена у него и у его жены, Анны Александровны, не было своего угла, хотя у них была квартира в четыре комнаты возле Porte de St. Cloud. Вся эта квартира была занята людьми, которые скрывались от немцев, чаще всего евреями.
Люди, мало знавшие М. М., считали его общественным и политическим деятелем и были склонны думать, что его интересы ограничивались только этой областью. Но нет ничего более ошибочного, чем это мнение. Я присутствовал на нескольких его лекциях, которых я был единственным слушателем. Это случалось тогда, когда я приходил к нему вечером и мы сидели вдвоем и разговаривали. Помню, как он полтора часа говорил об итальянской живописи, которой был знатоком. В другой раз М.М. со своим всегдашним увлечением говорил о Тейяре де Шардене. В третий раз речь шла о декабристах – и этот исторический период он знал так же хорошо, как двадцатые годы нашего столетия. В том, что его интересовало, у него была непогрешимая память – он помнил наизусть стихи Вячеслава Иванова, Белого, Блока, Мандельштама. Я думал о его неутомимой общественной деятельности и недоумевал: когда же у него было время для всего остального? Когда он успел все это узнать, прочесть, запомнить?
Он был болен уже давно – болезнь вызывала у него тоже чрезвычайно своеобразную реакцию. Он никогда не жаловался и не жалел себя, как это часто у больных. Болезнь его раздражала – не потому, что он испытывал страдания, а оттого, что она мешала ему жить так, как он хотел: утром ехать в министерство по делам, потом обедать с друзьями, потом отправляться за город и вечером идти на собрание, где он должен был выступать.
– Вы подумайте, что из-за какой-то глупейшей аорты я должен сидеть дома. Что может быть более унизительного?
Он принадлежал к числу людей, которые никогда не говорят о своих личных чувствах и переживаниях. Но после того, как его жена скоропостижно умерла, его друзья боялись, что он покончит с собой, – и на него было жалко и страшно смотреть. Казалось, что жизнь потеряла для него всякий смысл. Это состояние продолжалось много месяцев, и только потом он постепенно стал приходить в себя. Но таким, каким он был прежде, он уже не стал больше никогда. Всегда было впечатление, что он видит рядом с собой тень, которая заслоняет от него солнце.
Но и это не изменило его отношения к людям. Он бывал часто очень резок и непримирим в своих суждениях. Но когда те, о ком он отзывался так, обращались к нему за помощью, он им не отказывал, и когда ему как-то сказали об этом, он ответил:
– Я не могу дать этому человеку то, чего он не заслуживает, элементарного уважения к нему. Но помочь ему легче, чем подать ему руку. Вы никогда не замечали, как подлецы, которые знают, что они подлецы, и знают, что другие их презирают, – как они могут быть несчастны?
У него было развито чувство юмора. В кругу друзей, рассказывая однажды о своем детстве в Эривани, он сказал, что там в те времена был учитель музыки, необычайно одаренный музыкант. И когда его спрашивали, какое музыкальное достижение он может себе поставить в заслугу, он говорил:
– Я? Да вы знаете, чего я добился? Я даже Тер-Погосьяна научил играть на скрипке гамму.
– Меня иногда одолевает маниловщина, – сказал мне как-то М. М. – Когда это со мной случается, я представляю себе идиллическое государство, где правительство состояло бы исключительно из порядочных и умных людей, где все депутаты парламента культурны и честны и где не нужен уголовный кодекс потому, что нет уголовных преступников. Как это было бы замечательно!
Потом он сделал паузу и прибавил:
– Но жить в таком государстве… я думаю, тоска была бы смертная. Как вы знаете, нет ничего скучнее, чем сплошная добродетель.
У него был глубокий интерес к истории и удивительная сила воображения. Когда он вспоминал, например, об убийстве Павла Первого, он говорил об этом с таким неподдельным волнением, точно сам был участником этого заговора. Он до конца не мог примириться с тем, что Римская Империя должна была погибнуть под натиском варваров. Иногда, в середине разговора об эмигрантских делах, он вдруг останавливался в раздумье и умолкал.
– Вы что, Михаил Матвеевич?
– Я не понимаю одной вещи. Я просто отказываюсь ее понимать. Не понимаю, хоть убейте.
– Чего именно?
– Я не понимаю, как Наполеон отказался бросить в бой старую гвардию во время Бородинского сражения.
Его интересовало все – Шекспир и аграрная реформа в России, Тинторетто и какой-нибудь роман Симонова, Моцарт и Чайковский, пьесы Кальдерона и очередная постановка «Грозы» Островского. Он очень хорошо знал сравнительную ценность этих вещей, но это все его интересовало.
Меня не было в Париже, когда он умер, и известие о его смерти, – хотя я давно знал, что он тяжело болен, – показалось мне неправдоподобным, не хотелось верить. Он был воплощением необыкновенной жизненной силы, и связать смерть с представлением о нем было трудно. Но встреч с ним больше не будет. Останется только воспоминание о нем и неизгладимая, постоянная благодарность этому человеку за его самоотверженную жизнь и за то, что нельзя назвать иначе, как несравненной душевной силой.
Тема о роли писателя в современном обществе, конечно, настолько широка, и понятия, которыми она может быть определена или может определяться, настолько растяжимы, что в коротком докладе, конечно, нельзя сказать все, что нужно было бы сказать. Поэтому надо ограничиться определенными рамками – и я заранее прошу прощения за эту вынужденную суженность доклада. Надо сказать, что я подумал об этой проблеме, – если это можно назвать проблемой, – прочтя в 83-м номере Нового Журнала стенографический отчет о заседании Союза писателей в Москве, на котором обсуждался вопрос о Пастернаке. Чтение, надо сказать, чрезвычайно назидательное. Привожу несколько цитат. «Творчество Пастернака лежало вне настоящих традиций русской поэзии, которая всегда горячо откликалась на события в жизни народа». О героях романа сказано, что вся их «система поведения не имеет ничего общего с нашим советским образом мышления». Дальше – «величественная история нашего государства». Пастернак – «враг своего народа и литературы». «Политическое и моральное падение Пастернака». Бунину дали Нобелевскую премию как «врагу советского народа». Ее же дали «фашиствующему французскому писателю Камю, который во Франции очень мало известен». Не существует возможности аполитичной литературы. Все это говорит писатель Смирнов, председательствующий на собрании.
«Пастернак ярчайший пример космополита» – писатель Ошанин. Зелинский – «на какую грань может завести это сочувствие эстетическим ценностям, если это сочувствие идет за счет зачеркивания марксистского подхода». Перцов: «Пастернак держит себя так, как будто он свободен от общества». Софронов: «Мы же, товарищи, советские писатели, стоящие на позициях нашей коммунистической партии». Борис Слуцкий – «все, что мы делаем, прямо направлено на торжество идей коммунизма во всем мире». Галина Николаева – «высокое звание советского гражданина». И наконец, Вера Инбер протестует против того, что Пастернак назван в резолюции эстетом и декадентом, т<ак> к<ак> это определения литературные и это «не заключает в себе будущего предателя».