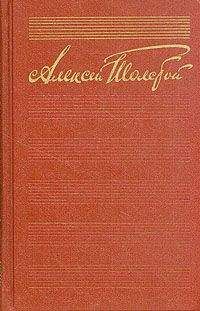- Так плохо и гнусно мне еще никогда не бывало, - сказал он. - Я удивляюсь, как ты до сих пор пускаешь меня в квартиру. Удивляюсь очень твоему терпению.
Марья Никаноровна, поглаживая Козявкины русые локоны, ответила:
- Ты ошибаешься, Егор, я уже несколько дней перестала тебя терпеть.
- Благодарю, конечно ты права. Что же, мне уйти сейчас?
- Да, я думаю, что нужно уйти.
Егор Иванович отбросил стул и пошел к двери, но на пороге остановился.
- Дело в следующем, - проговорил он, фыркая носом, - что я очень бы не прочь нырнуть куда-нибудь к чертям, в Фонтанку.
- Егор, я тебе не верю.
- Хорошо, увидишь.
- Все это слова, понимаешь - фразы!..
Она сдержалась и опять принялась гладить девочку. Егор Иванович ковырял ногтем краску на дверной притолоке.
- Можно тебе сказать два слова? - спросил он. - Я всегда чувствовал в себе огромную силу, невероятную силу, такую, что мне все представлялось возможным. И каждый раз, когда я устремлялся на что-нибудь, наступала минута, когда эта сила поворачивала и, как таран, вместо цели ударяла вверх, в пустоту. Тогда становилось тошно, безразлично и гнусно! Так и сейчас. Я ничего не делаю. Я ни на что не способен! А это неправда! Поставь меня на настоящее дело. Попробуй... Ты знаешь, как я в партии работал. И ушел только потому, что она сама развалилась...
- Тоже неправда, ушел ты из партии совсем по другой причине.
- Да, и по другой. Не лови меня, пожалуйста, на слове... Я хочу писать. Я добьюсь, что это будет настоящей работой. Выстроить дом или мост или написать роман - это одно и то же. Ах, только нехорошо все у меня складывается. С нынешнего дня, Маша, - ни одного часу для себя. Я еще не заслужил ни отдыха, ни счастья. Когда простишь меня - позови.
Он ушел. Марья Никаноровна, не двигаясь, глядела на то место, где он только что стоял. Синие глаза ее медленно наливались слезами.
16
За кулисами "Подземной клюквы" в узком каменном чулане горела пунцовая лампочка, освещая висящие на стенах кумачовые мантии, золотые шлемы, деревянные мечи, шляпы с перьями, маски, бумажные крылья летучей мыши, поломанную драконью голову. В углу за этими сокровищами сидел Иванушко, нетерпеливо нажимая кнопку .телефонного аппарата. На другом конце столика, заваленного программами, свистульками, красками, трещал и сыпал зелеными искрами озонатор, пахнущий собачьей шерстью.
- Алло, алло, вы слушаете? Двести пятьдесят бутылок шампанского, сто красного и сто белого! Ликеры и коньяк присланы, - закричал Иванушко. Если, черт возьми, не пришлете через тридцать минут, я обращаюсь к Депре.
Он швырнул трубку. В чулан вошел Белокопытов; его лицо, руки и парусиновая куртка были испачканы в красках.
- Готово, - сказал он, перекатывая из угла в угол рта изжеванную папироску, - я сказал, что кончу за час двадцать минут до начала; сейчас сорок минут десятого.
- Браво. Ты гений! Солнышко, неужели и птиц успел дорисовать? завопил Иванушко.
- Кончил все, как сказал... Еду одеваться. Пожалуйста, не забудь передать актерам, чтобы они под разными предлогами напомнили публике, кто расписывал стены и потолок. И подчеркнуть, что я писал один, без помощников.
Он подошел к телефону и заговорил:
- Три, тридцать три, пожалуйста. Ах, это вы? Валентина Васильевна, я только что кончил роспись, я закрасил, как вы посоветовали, все, что пытались намазать "Зигзаги" и Сатурнов; я написал лубочные розы, как на старых тарелках, райских птиц, одни держат во рту клюковки, другие цветок ромашки, третьи медальончики, на которых написано ваше имя; скрещение арок заполнено арабесками; в нише напротив входа женская фигура в пышном платье, с муфтой и собачкой, она как бы входит на прогулку в райский сад. Три дня я не вылезал из подвала, я хочу, чтобы вы на несколько минут почувствовали радость. Прощайте, я приду очень поздно.
Он снял со стены пальто и шапку. Иванушко, бегавший разговаривать на двор с поставщиками, закричал:
- Подумай, какие мерзавцы! Они требуют, чтобы я заплатил по счетам сегодня! Они хотят сорвать кассу на корню. Начнется съезд - нужно расплачиваться. А чайных ложек и стаканов еще не прислано. Черт с ними! Ну куда я помещу двести пятьдесят человек! Придется отказывать! Я заказал еще шесть озонаторов! Проклятие! Мне нужно было назначить за вход не десять, а двадцать пять рублей. Сегодня будет безумная ночь. Все это чувствуют! Какая-то зараза носится в воздухе. Николай, подумай, через два часа сюда войдут двести обольстительных женщин. Двести безумных коломбин. У каждой любовник или два любовника и третий муж! Есть от чего сойти с ума!
Иванушко метался в каменном чулане, задевая мантии и перья на шлемах.
- Вы провалили мой проект с появлением Сатаны. Это глупо, знаю, но это был бы удар по нервам! Должна войти женщина, сбросить мантию с плеч и оказаться нагой! Ты буржуй, вы все мещане! Вы боитесь наготы! Ах, если бы Салтанова захотела. Я бы взглянул на нее, и к черту сердце. Разрыв! Увидишь - я устрою закрытый вечер наготы...
Белокопытов вышел. Иванушко подскочил к аппарату и затараторил:
- Три, тридцать три. Коломбина, роскошь, вы одеваетесь? Зачем одежды, приходите полунагой. Да, все готово, будет и кабаре и диспут, но Сатана провалился; говорят, что Сатана - шаблон. Приезжайте к часу, я вижу, как вы входите, безумная, невероятная... Молчание, и вдруг все сердца тра-тата, тра-тата. Что вы делаете со мной!
Он положил трубку, на минуту в изнеможении повис на стуле, затем сорвался и выбежал в полутемную сейчас сводчатую комнату, где два лакея в зеленых фраках убирали цветами тесно составленные столы.
В то же время в массивных дверях спальни Абрама Семеновича Гнилоедова стоял шофер и докладывал, что машины госпожи Салтановой он решил не портить, а только налил воды в бензиновый резервуар и так напоил салтановского шофера, что тот проснется не раньше, как завтра к вечеру.
- Вы молодец, Леонтий, - сказал Абрам Семенович, застегивая перед трюмо шелковые подтяжки, - теперь идите и приготовьте мою машину; не забудьте розы поставить с правой стороны в бутоньерку.
Абрам Семенович принялся застегивать воротничок, строя ужасные гримасы, приговаривая: "Ах, черт!" Запонка впивалась то в палец, то в шею. "Растолстел!" - подумал Гнилоедов с отчаянием; засунул пальцы за ворот, перегнулся, подумал, что никто его сейчас не жалеет, и застегнул воротник. Лакей принес телефон, включил его и вышел. Гнилоедов склонил голову набок, сделал приятное лицо и заговорил:
- Барышня, пожалуйста, три, тридцать три. Ах, Валентина Васильевна, это вы? Извиняюсь, что еще раз побеспокоил! Сейчас был мой шофер и сообщил: к несчастью, ваш автомобиль действительно испорчен. Смею вам предложить свою машину? Благодарю. Я привезу вас и отвезу с быстротой ветра. Если прикажете, я буду всю дорогу молчать, как раб. Благодарю, благодарю вас!
В это время аппарат прервался, Абрам Семенович спросил: "Что, что?" и, соединясь со станцией, грубым уже голосом принялся кричать на телефонную барышню, грозя пожаловаться, спрашивая, знает ли она, с кем говорит?
Около этого же времени Сатурнов сбросил с себя ватошное пальто, под которым спал на диване, и хриплым голосом крикнул с полатей:
- Кто там?
- Вас к телефону, - ответил снизу из темноты детский голос. Александр Алексеевич, очень недовольный, натянул пальто и пошел через двор в парадный подъезд. Говорил Абозов. Он очень извинялся, что потревожил, но звонил уже по многим телефонам, никого не застал дома и просил Александра Алексеевича передать Волгину, Поливанскому и Белокопытову, что не может, как обещал, прийти в "Подземную клюкву", потому что вообще не хочет теперь никакой суеты. Никто, а тем более художник, не имеет права растрачивать время и здоровье на сомнительные удовольствия. Надо делать дело.
- Вы только за этим меня через весь двор погнали, - ответил Сатурнов, - черт вас подери! - И он повесил трубку. Все же сон разогнали, свежий воздух приподнял измятые нервы, нужно было куда-нибудь поехать, не сидеть в полутемном сарае одному. Посредине двора он остановился и поднял голову. Сырые клубы облаков, освещаемые с улицы фонарями, тащились медленно над самыми крышами, -и оттуда, с неба, несло ледяной сыростью, как из погреба. Сатурнов провел рукою по лицу, натянул повыше пальто, поднял плечи и повернул к телефону, попросив затем барышню включить номер три, тридцать три.
Валентина Васильевна сидела в ярком свету перед тремя зеркалами и полировала камнем и без того сияющие, как драгоценность, острые ногти. Парикмахер, в серой визитке, надушенный, с пышными усами, томно-бледный француз, завивал ей волосы, поднося щипцы то к носу, то быстро крутя ими.
В спальне, обитой сиреневым шелком, было тепло, пахло пудрой и щипцами. На белом ковре разбросаны чулки, туфельки и белье. Посреди широкой и низкой кровати, покрытой кружевами, спал серый сибирский кот.