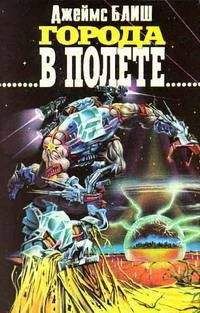Сидя опять в темной, он ревел от злости и негодования, впадал в припадки настоящей ярости. Ничем уже нельзя было смыть позорного клейма.
Его "отодрали" розгами, как последнего пропойцу или воришку. Тогда ему не пришло ни разу в голову, что в той же горнице секли без счету самых тихих и безобидных мужиков только за то, что они вовремя не уплатили мирских поборов. Он на всю свою жизнь получил отвращение к этому "миру". Все, что он в журналах и газетах читал сочувственного крестьянской самоуправе, вылетело разом и перешло в страстное стремление - уйти из податного сословия во что бы то ни стало, правдой или неправдой; оградить себя службой или деньгами от нового позора.
Вместе с отцом отвели их домой. Старуха Домна Архиповна повисла ему на шею и лишилась чувств. Она и всегда была хилая и в молодости считалась "кликушей".
Первым словом отца было:
- Ну, Вася! Не могу я тебя похвалить за то, что ты больше года личину на себе носил, - это, брат, хуже всего остального. Ведь вороги-то мои хотели донять меня тем, что над тобой Шемякин суд справили!
Пришлось бы им совсем плохо, если б не вступился за них новый член по крестьянскому присутствию. Отца на время оставили в покое, а его отпустили на сторону.
Задержи его тогда мир, не выдай ему паспорта - он бы бежал.
Через год достал он на дальней железной дороге место и быстро пошел в гору. Один из подрядчиков взял его к себе в подручные с процентом сверх жалованья.
Тем временем отца сослали по приговору на поселение, как "смутьяна", возмущающего против властей, когда он всю свою жизнь стоял за строжайшее исполнение закона.
Только через три года удалось ему вернуть его с поселения, с опухшими ногами, с водянкой в груди.
Продали старики свой давно выкупленный домишко с ветхим сараем, где было когда-то спичечное заведение. Он перевез их в город. Через полгода похоронил отца. Старуха поскрипела еще года два. Он ей выстроил избушку около того кладбища, где лежит "смутьян"...
- Задумались, Василий Иванович?
Теркина разбудил от дум, всколыхнувших все его прошлое, возглас капитана Кузьмичева.
Тот стоял над ним, широко расставив ноги, в том же картузе с ремешком, больших сапогах и коричневой визитке.
- Да... Вышла у меня здесь курьезная встреча!
- А чаишку грешного не благоугодно?
На это Теркин ничего не ответил. Он, кажется, и не расслышал приглашения капитана.
Они сделали несколько шагов к корме.
- Андрей Фомич! - начал Теркин и оглянулся. Вы приметили пассажира в камлотовой шинели? Чинушом смотрит?
- С орденом на шее?
- Да, да!
- Как же не приметить!
- Он где сел?
- В Ярославле, кажется. И какое, я вам скажу, животное! Между Василем и Казанью я его чуть не высадил на берег, в десятом часу вечера. У нас там тоже заминочка вышла. Посидели на перекате, так, малость... с четверть часа, не больше. Так как бы вы думали?.. Этот чинуш начал вдруг вмешиваться и ко мне с требованиями предъявляться. Как, мол, вы так оплошно действуете?.. Я заявление сделаю в газетах. Ах, мол, ты такой-сякой! Я на него и прикрикнул маленько. Он не унялся. Сейчас чином величаться стал. Статский советник он, видите ли; изволит проследовать в Сибирь!..
- Он! Он! - перебил Теркин рассказ капитана.
- Вы нешто его знаете?
- А как бы вы думали, кто эта камлотовая шинель?
Капитану было известно кое-что из прошедшего Теркина. Об ученических годах они не так давно говорили. И Теркин рассказывал ему свою школьную историю; только вряд ли помнил тот фамилию "аспида". Они оба учились в ту эпоху, когда между классом и учителями такого типа, как Перновский, росла взаимная глухая неприязнь, доводившая до взрывов. О прежних годах, когда учителя дружили с учениками, они только слыхали от тех, кто ранее их на много лет кончали курс.
Кузьмичев не догадывался, однако.
- Тот самый Перновский, из-за которого меня выгнали. Вы помните?
О том, что его наказывали розгами в волости, Теркин никогда и никому не признавался.
- Быть не может!
- Я не могу ошибиться. Да он и мало изменился.
Они повернули к рубке.
- И у вас, поди, всю внутренную перевернуло от одного взгляда на этого субъекта?
- Поверите ли, - отозвался Теркин, сдерживая звук голоса, - ведь больше десяти лет минуло с той поры - и так меня всего захватило!.. Вот проходил и просидел на палубе часа два. Уж солнце садиться стало. А я ничего и не заметил, где шли, какими местами.
- Так, так, - говорил ласково капитан и глядел игривыми глазками на Теркина. - Понимаю вас, Василий Иваныч...
- Теперь такой господин для меня - мразь и больше ничего!.. Но надо же было этой физии очутиться предо мной вон там в ту минуту, когда я был в самом таком настроении.
Теркин не досказал. О любви своей он не начал бы изливаться даже и такому хорошему малому, как Кузьмичев.
С какой стати? Во-первых, капитан в скором времени может попасть в его подчиненные, а во-вторых, Теркин давно держался правила - о сердечных делах не болтать лишнего. Он считал это большой "пошлостью".
Солнце совсем уже село за луговой берег. Теркин не ошибся: два часа пролетели незаметно в образах прошлого.
- Где же он? - спросил капитан, оглядываясь в обе стороны.
- Наверно, чай пьет.
- Не хотите ли спуститься в общую каюту? Мне занятно было бы при вас, Василий Иваныч, посшибить с него форсу... Пройтись в комическом роде...
- Пойдемте!
В громком возгласе Теркина вырвался наплыв еще не заснувшего чувства. Он не мог отказать себе в удовольствии устроить встречу Перновского с своим бывшим питомцем.
Может быть, в другое время и не на пароходе, а где-нибудь в театре, в вагоне, у знакомых, он бы и оставил в покое "аспида". Но к давней обиде, разбереженной встречей с ним, прибавилась еще и досада на то, что фигура в камлотовой шинели вышибла его из сладко-мечтательного настроения.
Спускался он в каюту, и по всему телу у него пошли особого рода мурашки - мурашки задора, приготовления к чему-то такому, где он отведет душу, испробует свой нрав! Он знал, что в нем есть доля злобности, и не стыдился ее.
В каюте стоял двойственный полусвет. Круглые оконца пропускали его с одной стороны, другая была теневая, от высоких холмов. Пароход шел близко к берегу.
Направо и налево тянулись узкие обеденные столы. За левым сидели два купца и офицер и пили пиво. На дальнем углу правого стола действительно пил чаи пассажир с крестом на шее.
Шинель он положил на табурет и снял картуз. Голова оказалась лысая; передние волосы он слева направо примазывал к лысине на старинный фасон, с низким пробором над левым ухом.
Теркин и капитан вошли, остановились и обменялись взглядами.
- Экземпляр! - шепотом сказал капитан и крикнул в дверку буфета: - Илья!.. Снаряди-ка нам чаю порцию. Со сливками, и сухарей, коли есть, а то так булку.
- Слушаю-с, Андрей Фомич, - откликнулся лакей из буфета.
- Туда пройти? - спросил полушепотом капитан и показал рукой на тот угол, где разместился Перновский.
Теркин протеснился между столами и диванами и сел в аршин расстояния от Перновского: капитан - против него, у одной из колонок, поддерживающих потолок каюты.
Оба они обнажили головы. Без шляпы Теркин сейчас же делался моложе года на два, на три. У капитана маковка редела.
Кажется, Перновскому не очень понравилось, что они сели близко от него. Он посмотрел на них вкось, оттянул нижнюю губу к одному углу и прошелся фуляровым платком по вспотевшей лысине.
Пил он чай основательно, уже больше получаса; спрашивал и второй чайник горячей воды. Из собственной фляжки он подливал что-то темное в стакан, должно быть, ром.
На его сухом, но плечистом туловище подержанный дорожный сюртук сидел мешковато. Грудь прикрывала не первой чистоты рубашка, и крест спускался ниже, чем его обыкновенно носят.
Лакей подал чай, заказанный Кузьмичевым.
- Прикажете мне заварить, Василий Иваныч? - громко спросил капитан.
- Пожалуйста.
Ответ Теркина заставил Перновского обернуть голову в его сторону и оглядеть статного, красивого пассажира. На капитана он не желал смотреть: злился на него второй день после столкновения между Василем и Казанью. Он хотел даже пересесть на другой пароход, да жаль было потерять плату за проезд.
Капитан закурил крепчайшую "пушку". От дыма Перновский заметно поморщивался.
За другим столом разговор шел вяло. Слышно было, как Кузьмичев дует на блюдечко и прихлебывает чай, вперемежку с клубами дыма.
Вдруг отчетливо и довольно громко раздался вопрос Теркина, нагнувшегося вправо к своему соседу:
- А вы, никак, не узнаете меня, Фрументий Лукич?
Педагог мешал ложкой сахар и тотчас перестал, как только услыхал свое имя и отчество.
На лице его появилась недоумевающая гримаса.