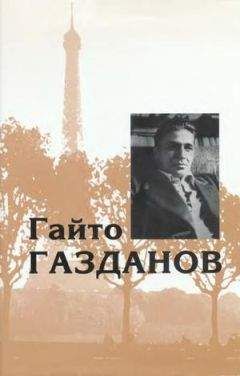Вспоминая много позже мою встречу с ней и то, как все началось, мне было легче это восстанавливать, закрывая глаза и сознательно и условно исключая из этого содержание нашего первого разговора в кафе, расставание под дождем и вообще вещи, сущность которых укладывалась бы в связный рассказ. Явственнее, чем когда-либо в моей жизни, я чувствовал, что все это сводилось к слепому и темному движению, к последовательности зрительных и слуховых впечатлений, одновременно с которыми неудержимо развивалось бессознательное мускульное тяготение. Торс Джонсона, рухнувший Дюбуа, прикосновение моих пальцев к ее руке, когда я помогал ей войти в автомобиль, вообще эта немая мелодия кожи и мышц, этот встречный толчок ее тела, в котором она, быть может, даже не успела отдать себе отчет, – именно это было главным и именно это предопределило дальнейшее. Что она знала обо мне в тот туманный февральский вечер, почему после этого она ждала моего телефонного звонка неделю? Когда она в первый раз улыбнулась мне этой своей жадной улыбкой, такой неожиданной, я знал уже, что она будет мне принадлежать, а она это знала раньше, чем я. И, конечно, этому предшествовало крушение всего того мира отвлеченных вещей, который пренебрегал примитивными и чисто физическими понятиями и где своеобразная философия жизни, построенная на предварительном отказе от преобладающего значения материалистических моментов, была несравненно важнее, чем любые чувственные реакции, – этого мира, который в тот вечер мгновенно растворился в этом безмолвном мускульном движении. Когда я сказал как-то об этом Елене Николаевне, она ответила с улыбкой:
– Может быть, потому, что без философии мы бы все-таки прожили, а если бы не было другого, о котором ты говоришь, то человечеству угрожало бы исчезновение, в той или иной форме.
Я нередко чувствовал себя несвободным в ее присутствии, особенно первое время. Я очень скоро убедился, что ее реакции на все происходящее были не такими, как у большинства других женщин. Для того чтобы ее рассмешить, например, нужны были не те вещи, которые смешили всех; для того чтобы вызвать в ней проявление какого-нибудь чувства, надо было сначала найти для этого особенный путь, не похожий на обычный. И на это сложное перестраивание того эмоционального мира, в котором проходила моя близость с ней, мне понадобилось много времени и много усилий. Но я жил теперь, наконец, настоящей жизнью, которая не состояла наполовину – как это всегда было до сих пор – из воспоминаний, сожалений, предчувствий и смутного ожидания.
Мы часто и подолгу гуляли с ней по Парижу; она знала его поверхностно и плохо. Я показывал ей настоящий город, не тот, о котором писалось в иллюстрированных журналах и который был неизменным в представлении иностранцев, приезжающих сюда раз в год на две недели. Я показывал ей нищие рабочие кварталы, провинциальные, отдаленные от центра улицы, постройки на окраинах, некоторые набережные, Севастопольский бульвар в четыре часа утра. Я помню, с каким удивлением она смотрела на rue St. Louis en Rue, – и действительно, было трудно себе представить, что в том же городе, где существуют avenues, отходящие от площади Etoile, может находиться этот узкий и темный проход между двумя рядами бесконечно старых домов, пропитанных вековой затхлостью, против которой была бессильна всякая цивилизация. Была уже поздняя весна – и тогда, после долгого холода зимы и всех ее печальных пейзажей, не уезжая никуда, мы увидели другой Париж: прозрачные ночи, далекое красное зарево над Монмартром и сплошные каштановые деревья на бульваре Араго, куда мы почему-то попадали несколько раз подряд. Я шел, держа ее за талию, и она мне сказала ленивым и спокойным голосом, без малейшего оттенка протеста:
– Ну, милый мой, ты ведешь себя, совершенно как апаш.
Иногда, перед возвращением домой, мы заходили в ночное кафе или бар, и она удивлялась тому, что, в каком бы районе это ни происходило, я знал в лицо всех гарсонов и всех женщин, сидевших на табуретах у стойки и ожидавших очередного клиента. Она пила только крепкие напитки, у нее была необыкновенная сопротивляемость опьянению, объяснявшаяся, я думаю, долгой тренировкой и пребыванием в англосаксонских странах. Только выпив довольно значительное количество алкоголя, она становилась не такой, какой бывала обычно, и ее непременно начинало тянуть туда, куда не нужно. – Поедем на Бастилию, в bal musette[15], я хочу посмотреть на gens du milieu[16]. Поедем на rue Blondel, в знаменитый публичный дом. – Это неинтересно, Леночка. – А где здесь собираются педерасты? Ты это должен знать, какой же ты журналист, если ты этого не знаешь? Поедем, я тебя прошу, я так люблю педерастов. – Вот мы поедем, и меня ранят ножом, что ты тогда будешь делать? – Не надо настраивать себя на такой напрасно-героический лад, никто тебя не ранит, это вообще плохая литература. – Иногда ей приходили в голову совершенно дикие мысли. Я помню, как она однажды расспрашивала меня, где ночью можно купить конфет. Не подозревая ее подлинных намерений, я сказал ей это. Мы были в такси, она велела шоферу ехать туда и вышла из магазина с руками, полными мешочков конфет.
– Что ты со всем этим будешь делать?
– Мой милый, – сказала она совершенно не свойственным ей нежным голосом, по которому я услышал, что она была совсем пьяна – до тех пор это не было внешне заметно. – Я тебя поцелую, я сделаю все, что ты захочешь, но ты должен исполнить мою маленькую просьбу.
– Кажется, дело плохо, – сказал я, думая вслух.
– Вот такую маленькую, – продолжала она, показывая ноготь своего мизинца. – Ты должен знать, я уверена, что ты знаешь, в каком районе Парижа есть девочки-проститутки от десяти до пятнадцати лет.
– Нет, я не имею об этом представления.
– Ты хочешь, чтобы я расспрашивала шофера? Ты будешь в глупом положении.
– Но зачем тебе эти девочки?
– Я хочу им раздать конфеты. Ты понимаешь, это будет им приятно.
Мне удалось отговорить ее от этого с большим трудом. Но иногда она настаивала так, что мне предоставлялся только выбор – либо удержать ее силой, либо уступить; и, таким образом, мы побывали почти всюду, где ей хотелось, и я заметил, что все эти места ее не очень, в сущности, интересовали. Она просто давала волю какому-то своему неожиданному желанию, но как только оно становилось легкоисполнимым, оно теряло для нее значительную часть соблазнительности. Она была готова на все ради сильных ощущений. Но сильных ощущений не было, были только в одном случае сутенеры в светло-серых кепках, относившиеся с почтительной боязнью к полицейским, дежурившим у входа в bal musette, в другом – голые полноватые женщины с вялыми телами и мертвенно-животной глупостью в глазах, в третьем – подведенные молодые люди с развинченной походкой и каким-то необъяснимым налетом душевного сифилиса на лице. И она говорила:
– Ты прав, это скучно.
Она любила очень быструю езду на автомобиле. Когда однажды она попросила меня взять напрокат машину без шофера, мы поехали за город и я доверчиво дал ей руль, она повела автомобиль с бешеной скоростью, и я не был уверен, что из этой прогулки мы вернемся домой, а не в госпиталь. Она прекрасно умела править, но все-таки на поворотах и перекрестках мне каждый раз хотелось закрыть глаза и забыть о том, что происходит. Наконец, после того как мы чудом, казалось, избежали третьей катастрофы, я ей сказал:
– У нас могло уже быть три столкновения.
Не уменьшая хода, она отняла левую руку, показала мне указательный палец и ответила:
– Одно.
– Почему?
– Потому что после первого столкновения мы бы дальше не поехали, у нас не было бы никаких других возможностей.
Но на обратном пути я категорически отказался пустить ее за руль, и, когда мы ехали, она мне сказала:
– Я тебя не понимаю, ты едешь так же быстро, как я, чего же ты боишься? Ты думаешь, что ты правишь лучше меня?
– Нет, – сказал я, – я в этом не уверен. Но я знаю дорогу, я знаю, какие перекрестки опасны, какие нет, а ты едешь вслепую.
Она посмотрела на меня со странным выражением глаз и сказала:
– Вслепую? Я думаю, что так интереснее. Вообще все.
В этот период времени мне удалось, наконец, избавиться от случайной и неинтересной работы, и я получил заказ на серию статей о литературе. Елена Николаевна пришла ко мне однажды днем, – это был ее первый визит, – без предупреждения – и я очень удивился, отворив дверь на неожиданный звонок и увидев ее.
– Здравствуй, – сказала она, осматривая комнату, в которой я работал, – я хотела застать тебя врасплох и, может быть, в чьих-нибудь объятиях.
Она стояла у полок с книгами, быстро вынимала том за томом и ставила их на место. Потом она вдруг посмотрела на меня остановившимися глазами с таким оттенком выражения, которого я в них никогда еще не видал.
– Что с тобой?