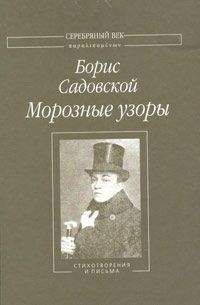— Клара, здравствуй: наконец-то мы увиделись.
— Что пану угодно?
— Вспомни масленицу, вспомни маскарад.
— На масленицу я уезжала, на маскараде не была.
— Куда же ты ездила?
— Какое пану дело? И прошу говорить со мною деликатнее, не по-хамски.
— Лжешь, змея! Ты клялась мне в вечной любви!
— Я вас не знаю.
С вечера мятелица, распевая, гонит снежные хлопья над серым морем замерзающих петербургских крыш. Леденеют слуховые окна, карнизы, трубы; стынут чердаки.
У поэта Кольцова критик Белинский. В низенькой комнатке сальная свечка мигает, шипит приветливо самовар.
Веселое старообразное лицо Кольцова раскраснелось.
— Мадерцы откушайте, Виссарион Григорьич.
Белинский раскрыл табакерку.
— Охотно. Это вино напоминает мне студенческие проказы. Чего мы только не выкидывали тогда! Колотили и будочников, и девок. И вот теперь в Пятигорске расплачиваться пришлось: целое лето не вылезал из ванны.
— И помогло?
— Помогло.
— Слава Богу. А меня в Новочеркасске лечила простая казачка. Посадила в кадку, рогожкой укрыла и давай окуривать. Чуть-чуть не задохся. Боткин Василий Петрович страсть как смеялись: лошадиное, дескать, средство. Самому-то ему парижские лекаря мазь в пятки втирали, так оно только щекотно. А я потом, как из кадушки-то выбрался, молебен служить ходил.
— Значит, вы у обедни бываете, Алексей Васильич?
— А то как же? Торговому человеку без Бога не обойтись. Оно конечно, Гегель немец башковитый, ну а все-таки немец, а не Бог.
— Стыдились бы. Ведь вы не Афродит Егоров. Кстати, что с ним? Вьюга за окошком протяжно запела; слабо стонет самовар.
— Как, вы разве ничего не слыхали?
— Ровно ничего.
— Страшная история, Виссарион Григорьич. Сначала у него ребенок помер, потом с женой беда стряслась. На масленой ездила она в маскарад, вернулась еле живая, а дня через три повесилась.
— Не может быть!
— И сам он после похорон пропал. Оставил квартиру, все вещи, деньги, бумаги. Мы уж думаем, не в прорубь ли махнул?
— Что ж, при его характере и это возможно. Ведь я Афродита еще с Пензы знаю. Парень неглупый, и дарование есть. Только весь предрассудками опутан.
Белинский встал, прошелся и понюхал табаку.
— А мятель, должно быть, стихает. Василий Петрович с Иваном Сергеичем зайти собирались: сразимся в преферансик.
Над Петербургом полная луна. От собора Петра и Павла в прозрачном тумане несется к Лавре бледная тень.
Сразу не заметишь ее: разве на мгновенье голубые отвороты белого мундира мелькнут, исчезнут и вновь мелькнут.
Тень вдруг взвилась и вся насквозь засветилась, пронизанная мертвенным блеском лунного столба. Одно за другим свалились дырявые голенища с истлевших ног; из-под прогнившей треуголки насмешливо оскалил желтые зубы безглазый череп.
Под налетевшим ветерком тень быстро развеялась с полусвистом-полустоном; из сугробов Ропшинского парка ответил ей такой же свистящий стон.
Куранты Петропавловской крепости долго играли полночь.
— Я разочаровался во всем, Натали. В Боге, потому что он не слышит моих молитв; в людях: они подают мне камни вместо хлеба; в себе самом, наконец.
— Но вы забыли о любви, Мишель.
— Любви не существует. Если вы говорите о любви к Богу, ее убивает равнодушие Творца. Люди платят за любовь враждой, а женщины изменой.
— Но вообразите сердце любящее, преданное, покорное. Вообразите любовь, не знающую страха. Она способна победить весь мир и самую смерть.
— Ха-ха-ха!
Третьего дня заехал ко мне Мишель в полном блеске нового парадного мундира. Надобно видеть форму Нижегородских драгун: неуклюжая куртка, шаровары, шашка через плечо и барашковый черный кивер с огромным козырьком. Все это было до того потешно, что я расхохотался.
Он бросил кивер с шашкою на кресло и, усмехаясь, подсел ко мне.
— Прощай, Володя: еду.
— Счастливого пути.
Вялый разговор тянулся недолго. Мишель заторопился, мы обнялись, я проводил его до лестницы.
И невольно пришли мне на ум слова графа Ламберта, адъютанта лейб-гусарского полка. Дело было зимой. У Мишеля в Царском за жженкой собрались все гусары; я один был в черном фраке среди красных венгерок, точно налим между вареными раками. Мишель держал себя невероятно, невозможно. Его гвардейская, учтиво-небрежная скороговорка перебивалась взрывами язвительного смеха; остроты были злы до неистовства; никого не хотел он оставить в покое, всем досталось. И вот тут заметил я, что офицеры, будто сговорившись, смотрели на него как на забавное, злое, но низшее существо, связываться с которым не стоит. По беспокойным глазам Мишеля я угадывал, до какой степени ему тяжело; видел, что сидевший в нем демон заставляет бедняжку ломаться против воли, мстить за унижение свое и оттого страдать.
Когда мы с Ламбертом вышли, граф заметил: «Он борется с собой».
На той неделе был я у Причастия. Лишь только, сойдя с паперти, я сел на извозчика, меня осенила внезапная и в то же время простая мысль. Ведь Христос, по воскресении явившись ученикам в запертой горнице, дунул и сказал: примите Духа Святого. Не может ли это служить доказательством того, что Дух Святой исходит и от Сына: filioque?
Мне захотелось сообщить мою мысль извозчику; вместо ответа услыхал я деревенский анекдот.
У богатого мужика на крестинах подали большую рыбу. Поп отрезал голову и спрятал в карман: в главизне книжной писано есть обо мне. Хвост взял дьякон со словами: и оставиша останки младенцам своим. Дьячок, видя, что ему ничего не пришлось, начал кропить всех подливой, крича: и над вашими главами пролияся благодать.
Вдруг, обгоняя меня, пролетели фельдъегерские сани; в них бодро восседал барон Дантес в шинели и фуражке; подле торчал жандарм. Мы обменялись дружеским приветствием.
В это воскресенье я был в манеже; там состоялся высочайший смотр лейб-гвардии Финляндского полку.
Финляндцы особенно дороги сердцу Государя: в печальный день декабрьского мятежа они безусловно остались верны присяге. «На мундире Финляндского полка ни одной пылинки», — сказал Государь. Среди финляндцев немало талантливых людей. Командиру генерал-майору Офросимову принадлежит известный романс «Уединенная сосна»; капитаном Титовым написана музыка полкового марша; подпоручик Федотов успел стяжать репутацию превосходного портретиста.
В манеже застал я картину довольно любопытную. Ровная линия недвижного фронта; подтянутые, с озабоченными лицами офицеры; оживленный, взволнованный командир. Сбоку вдоль стены колыхалась пестрая свита. Говор, восклицания, сдержанный смех.
В дверях остановился красивый казачий генерал. Я тотчас узнал Перовского. Не обращая ни на кого внимания, молча принялся он ходить взад-вперед у самых дверей. Свита переглянулась. Чернышев, подозвав адъютанта, что-то шепнул; тот быстро направился к Перовскому.
— Его сиятельство господин военный министр предлагает вашему превосходительству присоединиться к свите.
Перовский, не отвечая, понурился и продолжал ходить с заложенными за спину руками. Внезапно махальный крикнул:
— Его Императорское Величество изволит ехать!
Все начали поспешно оправляться. Офросимов стал перед фронтом.
— Смирно! Полк замер.
— Равнение направо! На пле-чо!
Ружья четко звякнули два раза; из дул и штыков образовалась гладкая зеркальная стена. Распахнулись двери.
— На кра-ул!
И опять ружья звякнули как одно. Мощная фигура Императора приближалась.
— Здорово, финляндцы!
— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!
Обернувшись, Государь увидел Перовского и нахмурился.
— Кто это?
— Генерал Перовский из Оренбурга.
Лицо Государя просветлело. Он подошел к Перовскому и обнял его.
— Здравствуй, голубчик. Я тебя ждал. Поедем ко мне завтракать. Чернышев, прими парад.
* * *
Высочайшим приказом переводятся: лейб-гвардии гусарского полка корнет Лермонтов за сочинение непозволительных стихов прапорщиком в Нижегородский драгунский полк; поручик кавалергардского Ее Величества полка Мартынов, согласно прошению, на Кавказскую линию, с производством в чин ротмистра.
И свет не пощадил, и Бог не спас.
Лермонтов
Двенадцатого марта я вышел в отставку майором и с половины мая живу в Пятигорске, в гостинице Найтаки. Со мною три дворовых человека: камердинер Илья, повар Иван и казачок Ермошка.
Много воды утекло за четыре года моего пребывания на Кавказе. Батюшка скончался прошлой весной безболезненно и спокойно; накануне его смерти все часы в нашем доме остановились.