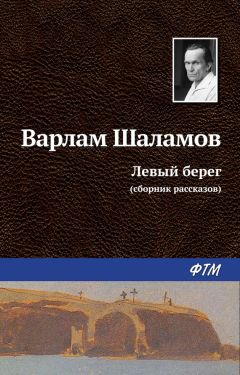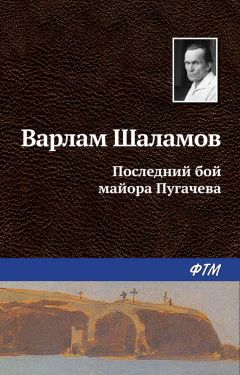Миша Выгон - студент Института связи: "Обо всем, что я увидел в тюрьме, я написал товарищу Сталину". Три года. Миша Выгон выжил, безумно открещиваясь, отрекаясь от всех своих бывших товарищей, пережил расстрелы,сам стал начальником смены на том же прииске "Партизан", где погибли, где уничтожены все Мишины товарищи.
Синюков, завотделом кадров Московского комитета партии: сегодня написал заявление: "Льщу себя надеждой, что у Советской власти есть законы". Льщу!
Костя и Ника, пятнадцатилетние московские школьники, игравшие в камере в футбол мячом, сшитым из тряпок,- террористы, убившие Ханджяна. Много после узнал я, что Ханджяна застрелил Берия в собственном кабинете. А дети, которые обвинялись в этом убийстве,- Костя и Ника - погибли на Колыме в 1938 году, погибли, хотя и работать-то их не заставляли,- погибли просто от холода.
Капитан Шнайдер из Коминтерна. Присяжный оратор, веселый человек, показывает фокусы на камерных концертах.
Леня-злоумышленник, отвинтивший гайки на железнодорожном полотне, житель Тумского района Московской области.
Фальковский, чье преступление квалифицировано как 58-10, агитация; материал - письма Фальковского к невесте и письма ее - жениху. Переписка предполагает двух и более человек. Значит, 58, пункт 11 - организация много отяжеляющий дело.
Александр Георгиевич сказал тихо: "Здесь есть только мученики. Здесь нет героев".
- На одном моем "деле" есть резолюция Николая Второго. Военный министр докладывал царю об ограблении миноносца в Севастополе. Нам нужно было оружие, и мы взяли его с военного корабля. Царь написал на полях доклада: "Скверное дело".
Я начал гимназистом, в Одессе. Первое задание - бросил бомбу в театре. Это была вонючая бомба, безопасная. Экзамен, так сказать, сдавал. А потом пошло всерьез, больше. Я не пошел в пропаганду. Все эти кружки, беседы очень трудно увидеть, ощутить конечный результат. Я пошел в террор. По крайней мере, раз - и квас!
Я был генеральным секретарем общества политкаторжан, пока это общество не распустили.
Огромная черная фигура метнулась к окну и, ухватив тюремную решетку, завыла. Эпилептик Алексеев, медведеобразный, голубоглазый, бывший чекист, тряс решетку и дико кричал: "На волю! На волю!" - и сполз с решетки в припадке. Над эпилептиком наклонились люди. Кто хватал руки, голову, ноги Алексеева.
И Александр Георгиевич сказал, показывая на эпилептика: "Первый чекист".
- Следователь у меня мальчик, вот несчастье. Ничего не знает о революционерах, и эсеры для него - вроде мастодонтов. Кричит только: сознавайтесь! Подумайте!
Я говорю ему: "Вы знаете, что такое эсеры?" - "Ну?" - "Если я вам говорю, что не делал,- значит, я не делал. А если я хочу вам солгать никакие угрозы не изменят моего решения. Хотя бы немножко вам бы надо знать историю..."
Разговор был после допроса, но не было заметно по рассказу, что Андреев волнуется.
- Нет, он на меня не кричит. Я слишком стар. Он говорит только "подумайте". И мы сидим. Часами. Потом я подписываю протокол, и расстаемся до завтра.
Я придумал способ не скучать во время допросов. Я считаю узоры на стене. Стена оклеена обоями. Тысяча четыреста шестьдесят два одинаковых рисунка. Вот обследование сегодняшней стены. Выключаю внимание. Репрессии были и будут. Пока существует государство.
Опыт, героический опыт политкаторжанина не нужен был, казалось, для новой жизни, которая шла новой дорогой. И вдруг оказалось, что дорога вовсе не новая, что все нужно: и воспоминания о Гершуни, и поведение на допросах, и уменье считать узоры обоев на стене во время допроса. И героические тени своих товарищей, давно умерших на царской каторге, на виселице.
Андреев был оживлен, приподнят не тем нервным возбуждением, которое бывает почти у всех, попавших в тюрьму. Следственные ведь и смеются чаще, чем надо, по всяким пустяковым поводам. Смех этот, молодцеватость - защитная реакция арестанта, особенно на людях.
Оживление Андреева было другого рода. Это было как бы внутреннее удовлетворение тем, что он снова встал в ту же позицию, которую занимал всю свою жизнь и которая была ему дорога - и, казалось,- уходила в историю. Оказывается, нет, он еще нужен был времени.
Андреева не занимает истинность или ложность обвинений. Он знал, что такое массовые репрессии, и ничему не удивлялся.
В камере жил Ленька, семнадцатилетний юноша из глухой деревушки Тумского района Московской области. Неграмотный, он считал, что Бутырская тюрьма для него - величайшее счастье - кормят "от пуза", а люди какие хорошие! Ленька узнал за полгода следствия больше сведений, чем за всю свою прошлую жизнь. Ведь в камере каждый день читались лекции, и хоть тюремная память плохо усваивает слышанное, читанное, - все же в Ленькин мозг врезалось много нового, важного. Собственное "дело" Леньку не заботило. Он был обвинен в том же самом, что и чеховский злоумышленник,- в 1937 году он отвинчивал гайки на грузила с рельсов железной дороги. Это была явная пятьдесят восемь- семь - вредительство. Но у Леньки была еще и пятьдесят восемь - восемь - террор!
- А это что такое? - спросили во время одной из бесед с Ленькой.
- Судья за мной с револьвером гнался. Над этим ответом много смеялись. Но Андреев сказал мне негромко и серьезно:
- Политика не знает понятия вины. Конечно, Ленька - Ленькой, но ведь Михаил Гоц был паралитик.
Это была блаженная весна тридцать седьмого года, когда еще на следствии не били, когда "пять лет" было штампованным оттиском приговоров Особых совещаний. "Пять рокив далеких таборiв", как выражались украинские энкавэдэшники. Чекистами работников этих учреждений в то время уже не называли.
Радовались "пятеркам" - ведь русский человек радуется, что не десять, не двадцать пять, не расстрел. Радость была основательной - все было еще впереди. Все рвались на волю, на "чистый воздух", к зачетам рабочих дней.
- А вы?
- Нас - бывших политкаторжан- собирают на Дудинку, в ссылку. Навечно. Мне ведь много лет.
Впрочем, уже были в ходу "выстойки", когда по нескольку суток не давали спать, "конвейер", когда следователи, отработав свою смену, менялись, а допрашиваемый сидел на стуле, пока не терял сознания.
Но "метод No 3" был еще впереди.
Я понимал, что моя тюремная деятельность нравится старому каторжанину. Я был не новичок, знал, чем и как надо утешать павших духом людей... Я был выборным старостой камеры. Андреев видел во мне- самого себя в свои молодые годы. И мой всегдашний интерес и уважение к его прошлому, мое понимание его судьбы было ему приятно.
Тюремный день проходил отнюдь не напрасно. Внутреннее самоуправление Бутырской следственной тюрьмы имело свои законы, и выполнение этих законов воспитывало характер, успокаивало новичков, приносило пользу.
Ежедневно читались лекции. Каждый, кто приходил в тюрьму, мог рассказывать что-то интересное о своей работе, жизни. Живой рассказ о Днепрострое простого слесаря-монтажника я помню и сейчас.
Доцент Военно-воздушной академии Коган прочел несколько лекций - "Как люди измерили Землю", "Звездный мир".
Жоржик Коспаров - сын первой секретарши Сталина, которую "шеф-пилот" довел до смерти в ссылках и лагерях,- рассказывал историю Наполеона.
Экскурсовод из Третьяковки рассказывал о Барбизонской школе живописи.
Плану лекций не было конца. Хранился план в уме - у старосты, у "культорга" камеры...
Каждого входящего, каждого новичка обычно удавалось уговорить рассказать в тот же вечер газетные новости, слухи, разговоры в Москве. Когда арестант привыкал, он находил в себе силы и для лекции.
Кроме того, в камере было всегда много книг - из знаменитой библиотеки Бутырской тюрьмы, не знающей изъятий. Здесь было много книг, каких не найдешь в вольных библиотеках. "История Интернационала" Илеса, "Записки" Массона, книги Кропоткина. Книжный фонд составлялся из пожертвований арестантов. Это была вековая традиция. Уже после меня, в конце тридцатых годов, и в этой библиотеке провели чистку.
Следственные изучали иностранные языки, читали вслух - О'Генри, Лондона,- со вступительным словом о творчестве, о жизни этих писателей выступали лекторы.
Время от времени - раз в неделю - устраивались концерты, где капитан дальнего плавания Шнайдер показывал фокусы, а Герман Хохлов, литературный критик "Известий", читал стихи Цветаевой и Ходасевича.
Хохлов был эмигрант, окончивший русский университет в Праге, просившийся на родину. Родина встретила его арестом, следствием, лагерным приговором. Никогда больше о Хохлове я не слышал. Роговые очки, близорукие голубые глаза, белокурые грязные волосы...
Кроме общеобразовательных занятий, в камере возникали, и часто, споры, дискуссии на очень серьезные темы.
Помню, Арон Коган, молодой, экспансивный, уверял, что интеллигенция дает образцы революционного поведения, революционной доблести, способна на высший героизм - выше рабочих и выше капиталистов, хотя интеллигенция и межклассовая "колеблющаяся" прослойка.