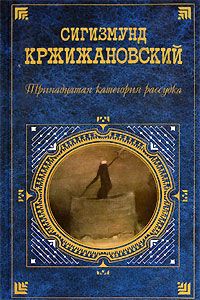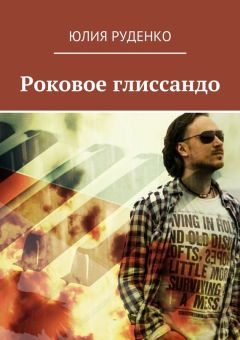Правительство, неуклонно проводя план полной эксификации жизни, заботилось и о ее продлении. Плановая организация любви потребовала сооружения еще одного, так называемого Случного экса, который, действуя периодически, короткими, но сильными ударами эфира, бросал мужчин на женщин, случал и разлучал с таким расчетом, чтобы наименьшая затрата времени давала наибольшее число зачатий. Кстати – один из иммунизированных, личный секретарь Зеса, молодой человек с этакой прядью волос, как вот у нашего Шога, – ну, чтобы не искать долго имени, – назовем его Шагг.
– У вас довольно бесцеремонная манера изготовления имен, – дернулся в кресле Шог, – и я советовал бы вам…
– К порядку. Право делать замечания принадлежит здесь только мне, – возвысил голос председатель, – продолжайте рассказ.
– Так вот, этот Шагг, еще задолго до всяких эксификаций тщетно вздыхавший о некоей даме, которая, невзирая на приятные качества оного Шагга, ставила его ни во что, – Шагг этот решился на следующий шаг: прибегнуть к помощи экса. Машине было все равно. В указанный юношей час она привела женщину в указанное место, но сама, так сказать, не уходила, то есть нервный и мнительный юноша ощущал ее и внутри любви – он почти с галлюцинаторной ясностью слышал: кружили стальные роторы, смыкались и размыкались выбрирующие токи, тянулся нудный и тонкий высвист. Да, друзья мои, ветер, дергавший – в тот, помните, первый день – за тесемки легких полукружий, умел наполнить их, в сущности, только воздухом – ну, и эксы могли приготовить все, что угодно, кроме эмоций. Одним словом, наутро наш бедный Шог… виноват, Шагг был грустен и неразговорчив, и когда его патрон, благоволивший к юноше, потирая руки, похвастал, что перестройку мира можно считать вчерне законченной, – он наткнулся на молчание и угрюмый блеск глаз.
Наступили месяцы и годы отсчитываемой на счетчиках, точно дозируемой и распределяемой действительности; история, заранее, почти астрономически, вычисленная, превратилась в своего рода естествознание, осуществляемое при помощи двух классов: инитов, которые управляли, и эксонов, которыми правили. Казалось, что Pax Exiniae [6] ничем не может быть нарушен, но тем не менее…
Первые «выпадения из плана», как запротоколировали их на заседании Верховного Совета, имели видимость случайных исключений в мире включенных. Так, например, вместо того чтобы проходить мосты вдоль, некоторые, – очевидно, неточно иннервированные, – эксоны стали переходить их поперек; таким образом, с мускульного запаса пришлось списать изрядное количество выбывших особей; амортизация эксов получала несколько высокий коэффициент. Обнаружились перебои в работе случной машины: виды на человеческий урожай не оправдывались, – рождаемость давала довольно низкий балл. Все бы это ничего, но положение стало тревожным, когда обнаружились какие-то технически не учтенные отклонения и неправильности в работе иннерватора, приводившего в действие «аппарат» Эксинии. Тутус, которого взяли в кольцо вопросов, раздумчиво покачивал головой и в конце концов заявил: «Чтобы выверить машину, есть один способ: остановить ее».
После длительного совещания решено было, в виде опыта, остановить экс номер один, во-первых, потому что он, как наиболее длительно работающий, давал максимум перебоев, во-вторых, потому что в него, как вы помните, были включены душевнобольные – казалось наиболее гуманным принести в жертву именно их.
В назначенный день и час номер один прервал подачу иннервации, и несколько миллионов людей, подобно парусам, лишенным ветра, мгновенно опали, дрябло обвисли книзу и – кто где был – неподвижно распластались на земле. Иные иниты, проходя мимо списанных со счета эксонов, видели двигавшиеся и в неподвижных тушах глаза, вздрагивающие ресницы и дышащие ноздри (кое-какие мелкие мускулы оставлялись людям, как безвредные для социоса, в их распоряжение); через три-четыре дня мимо обездвиженной человечины нельзя было пройти, не затыкая носа, так как она начала заживо сгнивать; проверка машины не была закончена, поэтому – в интересах социальной гигиены – всю эту дергающую ресницами человечину… пришлось свалить в ямы и сровнять над нею землю.
А между тем долгий и тщательный осмотр номера один, разобранного на мельчайшие составные части, дал совершенно неожиданные результаты.
– Иннерватор в абсолютном порядке – был и есть, – с гордостью заявил Тутус, назначенный главным экспертом. – Обвинение, предъявленное машине, считаю неправильным. Но если причина эксцессов не в эксах, то… ее надо искать в эксонах, в изолированности и безнадзорности их психик. Недавно я наблюдал чрезвычайно элементарный и потому показательный случай: эксон, поставленный у ручки аппарата и иннервируемый на вращение ее справа налево, на самом деле толкал рычаг то вправо, то влево, как если б в мускулах его действовали две направленных друг против друга иннервации. Да, отрезав доступ их мозгам в мир, мы и себе отрезали наблюдение над их психикой. Через порог комнаты, запертой на ключ, не переступить: ни извнутри – ни извне. Меня, разумеется, совершенно не интересуют все эти душеобразные придатки, претендовавшие в прежние варварские времена на нелепейшие названия вроде «внутреннего мира» и так далее…
– Но это не интересует и вас, Дяж, – ударил по рассказу звонкий голос Шога. Повернув пылающее лицо к прерванному им рассказчику, не обращая внимания на предостерегающий жест председателя, скороговоркой, почти глотая слова, Шог бросил их во фланг рассказу: – Да, вас, как и ваших тутусов и зесов, не интересует единственно интересное во всей этой фантасмагории – проблема обезмускуленной психики, духа, у которого отняли его действенность; вы входите в факты извне, а не извнутри; вы хуже ваших бактерий: они пожирают факты, вы – смыслы фактов. Подайте нам не историю об эксах, а историю об эксонах, и тогда…
– Представьте себе, мой Шагг был того же мнения. На описываемом мною собрании после выступления Тутуса он – несколько неожиданно для патрона – вскочил со своего места и, сверкая глазами, стал говорить о том, что… но от повторения его «что» Шог меня освобождает. Спасибо. Иду дальше. Так вот, надо вам знать, этот самый Шагг, о бытии которого я уже докладывал собранию, отдавал свои досуги сочинительству повестушек. Разумеется, тайно и, разумеется же, «для себя», так как найти «других»… – в век эксов литература, отрезанная вместе с «внутренними мирами» напрочь и начисто, – найти других, говорю я, она, конечно, не могла. Одна новелла Шагга, называвшаяся, кажется, «Выключенник», рассказывала о некоем якобы гениальном мыслителе, который к моменту переворота, произведенного невидимым городком, досоздавал свою систему, открывавшую новые великие смыслы; внезапно включенный в ряды автоматов, он проделывал вместе с ними какую-то элементарную, в пять-шесть движений, изо дня в день одну и ту же работу и был бессилен бросить человечеству свою всеспасающую мысль: в мире, где действование и мышление, замысел и овеществление разобщены, – он, видите ли, выключенник.
В другом этюде повествовалось о некоей от глубины души до кончиков ногтей прекрасной даме (биография зачастую лезет, куда ее не просят) – даме, которую машина отдает именно тому, кому отдано и ее сердце, но «он», изволите ли видеть, – не знает этого и никогда не сможет узнать. В произведении этом было много зачеркнутых строк и чернильных клякс, так что разбираться в нем подробнее не берусь.
Наконец, «симпатичное дарование» нашего автора остановилось на теме о жизни, попадающей и в бытие и в машину одновременно: то есть рассказывалась история ребенка, постепенно вырастающего в отрока, пробуждение сознания в котором застает его уже включенным в экс; для существа этого не существует мира за пределами экса: экс для него трансцендентален, все же его собственные поступки представляются внешними вещами, как для нас предметы и тела окружающего нас мира; собственное тело видится ребенку отодвинутым от сознания и никак с ним не связанным, – короче, ход машины, обуславливающий все объективно происходящее, представляется ему как бы третьей кантовской формой чувственности, в равных правах с временем и пространством. Притом эксобразное мышление этого существа, не знающего о возможности перехода от воления к поступку, от замысла к осуществлению, естественно приходит к признанию бытия мира замыслов и волений в самих в себе, то есть к крайнему спиритуализму. И все же, шаг за шагом, Шагг выводил своего героя за черту сомкнутого круга, заставляя отыскивать и отыскать его некий ех, переступающий за грани эксовой логики: для этого автор пользуется, как это намечалось и в предыдущем его рассказе, случайными совпадениями (пусть чрезвычайно редкими) между желанием, возникающим в душе, и поступком, привносимым извне, из экса; наблюдения над этими случайными моментами гармонии приводят эксона к мечте об ином умопостигаемом мире, в котором исключения эти превращены в правило и… но не буду кончать, потому что и Шагг не кончил: радиограмма от Зеса требовала немедленного его прихода.