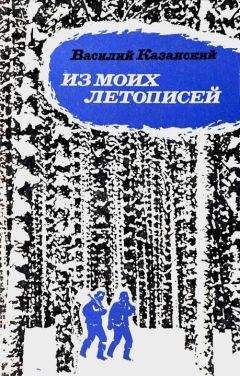- Тогда поработай эти два-три года в таком месте, где ничего не прилипает к рукам.
- Может быть, грузчиком?
- Может быть, грузчиком.
- И у грузчиков прилипает. Но дело не в этом. Вне своей среды я никому не нужен, а в сорок лет начинать с нуля... Отобьюсь от своих, не прибьюсь к чужим.
- Но что же делать, если так все получилось? Какие там свои, они усадили тебя на скамью подсудимых. Ты благородничал на суде, а они попрятались. Потом откупались подачками. Петра Григорьевича твоего мне только потому жаль, что чувствовалось: совесть его гложет. Что у него было?
- Саркома.
- Вот! Еще не доказано, но убеждена, как медик убеждена, что рак, саркома, особенно саркома - это болезни совести.
- Умирая, он сказал мне: "Сына жаль... Жену... Деньги ничего не решают... Обман..."
- Вот! Ты запомни эти слова, Паша, запомни!
- Слова остаются словами. А как жить? Вот у Костика и мать и жена вяжут. И мне, что ли, жениться на вязальщице? Но за меня порядочная сейчас не пойдет, Нина. Проем змеиные деньги, и кто я?
- Ты со мной, Павел, споришь или с собой? Если у тебя все наперед решено, так о чем разговаривать. Иди, работай, куда зовут. Ты им честный там не нужен, верно ведь? Иди, заколачивай большие свои деньги, пока не попадешь. А там опять суд. Только не забудь: у тебя сын, и ему плохо, Павел. Он был крохой, когда ты ушел, ему достаточно было матери. Теперь ему отец нужен.
- Но разводятся же люди, разводятся же люди!
- Не кричи. Ни меня, ни себя ты криком не убедишь. Да, разводятся. Или вот, как у меня, когда умер муж. Но тогда мать должна тянуть, должна быть за двоих. А твоя Зинаида выскочила замуж. Но и это еще не беда. Она плохой матерью оказалась - вот это уже беда.
- Почему плохой?
- А вот та же среда, все та же среда. Муженек попивает, сама попивает. Легкие деньги. И, учти, жадной стала. Знать, нелегкие это деньги. Злой стала. Доброй смолоду не была, а теперь злой стала. Дом забит барахлом. Хмуро они живут, Паша. Я не завидую их барахлу, поверь. Конечно, хотелось бы одеть Олю получше, все так, но не любой ценой. Она у меня смешливая, веселая, уверенная. Заметил? Нет ничего дороже. А Сережка замкнулся в себя, от него улыбки не допросишься.
- Заметил.
- Что же делать будем, брат?
- Не знаю. Ей-богу, не знаю.
- Ты поживи у меня, отдохни.
- Мне к вечеру в Москве надо быть, у Петра Григорьевича.
- Так ведь похороны не сегодня же. Передохни, проспи хоть ночь у родной сестры. Ты когда вошел, я испугалась за тебя. Черное было лицо. Не в загаре дело, а в той проступи на лице, которая говорит, что человеку худо. Слава богу, отошел. Знаешь, я залюбовалась тобой, когда ты эту дыню рубил. И Ольга опять вытаращилась. Произвел ты на девочку впечатление. Ты еще у нас молодой, Паша, ты еще у нас всего достигнешь!..
- Ну, не нужно, слезы-то зачем? - Павел наклонился к сестре, они опять обнялись. - И достигну, и достигну, вот увидишь...
Павел не уехал, остался на ночь. Давно он так не спал, так спокойно, без этих снов проклятых, которые длили, вторили явь, выбирая из прожитого что похуже, такое, чтобы в самое сердце укололо. Давно не сторожил он сам себя во сне, как выучился сторожить в заключении, когда сам спишь и сам же себя стережешь. Даже когда один спал - а в последние месяцы перед выходом на волю он уже и жил повольнее, его освободили от общих работ, он помогал вольнонаемному бухгалтеру составлять отчет, - даже и совсем один в комнатенке, которую ему отвели, он все же спал, сам себя карауля. А в Кара-Кале - опять такой же сон, сторожный, вполглаза. Пойми-ка, кто опаснее, порченый человек на койке рядом или же скорпион, забравшийся к тебе под одеяло. Но еще опаснее, всего опаснее были собственные мысли. Он сторожил себя, свой сон, от своих мыслей. Только вцепятся, как он будил себя. Спать бывало страшнее, чем не спать. Когда кошмарило, когда весь этот бред наваливался с погонями, с ножами и выстрелами, ну, как в кино, он спал спокойно, отдыхал.
Весь вчерашний день был счастливым, самым счастливым за все эти годы, а отсчет он вел от той минуты, когда захлопнулась за ним зарешеченная дверь машины, похожей на небольшой фруктовый фургон.
Весь день вчера он сперва бродил с Олей по Дмитрову, они заходили в магазины, что-то он там покупал для нее, хотя она отказывалась, потом сидели в кафе, собор вокруг обошли. На улицах на них оглядывались, узнавая в Ольге родственное сходство с этим вычерненным солнцем человеком, здороваясь и с Ольгой, которую многие знали, и с ним заодно как с ее родственником, но и отдельно с ним - он вызывал интерес, уважение. Он чувствовал, что на него смотрят с интересом, Ольга говорила ему об этом, она гордилась им. А он ею, и он говорил ей об этом, что на нее засматриваются, что с ней здороваются уважительно, добро. В этой приязни, в этом родстве, в тишине этой он и прожил вчера весь день. Незнакомое чувство сейчас жило в нем, щекочущее какое-то, как щекочет радость, будто внутри него что-то оттаивало, оттаивало.
Ну, а ехал он на мороз, опять на мороз.
Его тянул этот проклятый, пропахший сладкой химией павильон, и эта женщина, что говорить, подманивала. Как ты ни настораживайся, ни упирайся, а женщина, с которой ты был близок, уже зажила в тебе, уже начинает подзывать твои мысли. От Курского вокзала было недалеко до той тихой тополиной улицы, всего четыре остановки на троллейбусе и совсем недолгий путь кривенькими переулками, которые были милы Павлу не парадной стариной, этими купеческими домиками, уцелевшими здесь под вековыми деревьями. Бывало, даже когда он на своей машине в те места приезжал, он парковал машину задолго до кирпичного дома, шел к нему пешком, этими вот переулочками, уездной этой Россией. Уцелели еще в Москве переулочки, которые как бы от имени всей России с тобой разговаривают, от былого даря твоей душе покой. Надо же было, чтобы эту сомнительную да и оскорбительную для него работку ему подобрали в таком заманчивом месте, в памятном добро месте.
Когда ехал к Митричу, не обратил внимания, проскочила машина, а оказывается, переулочки похорошели с той поры, когда он бывал здесь, домики в два этажа, где в первом была непременно лавка, подремонтировали, вернули им былой цвет - это, должно быть, к Олимпиаде все было сделано, чтобы заморские туристы, очутившись тут ненароком - а что им тут делать? - могли бы умилиться. А вот теперь он умилялся, не заморский человек, здешний, тутошний, хотя и бездомный. А что, а не плюнуть ли на все, не окоротить ли себя, напор этот в себе, мечты свои, да и остаться тут жить? Да, да, продавцом в фруктовом павильоне, да, да, сожителем бывалой, погулявшей всласть женщины. Комбинировать, но без особой жадности, чтобы не загребли, попивать, погуливать, а надо, так и морду набить своей бабенке, если что, а? Дружки тут заведутся, компания. Месяцами с этих улочек в Москву не понадобится путешествовать. И в Москве ты, и в тишине. Сын?! Да, сына жалко... А себя? В сорок лет сдаваться надумал?
Куда было сперва идти - к павильону или к Вере, к которой рискованно все ж врываться, не позвонив заранее, а телефон ее он записать не догадался. Павел решил пойти к павильону, побыть возле него, приглядеться, что там вокруг за жизнь, какие там люди ходят. Если здесь он начнет работать, всякая малость для него здесь будет немаловажной. Так начнет он тут или откажется? Может быть, уже начал? Он миновал красный дом, уже угретый солнцем, горячим дохнуло от кирпичной стены, метнулось, ворохнулось что-то в глазах, горячо стало глазам.
А вот и павильон. Гляди-ка, открыт! Раздернуты ширмы ставень, легенькие занавесочки праздничными флажками полощутся на ветру, только что отъехала машина, сгрузившая плоские ящики, и суетятся у этих ящиков трое мужичков, это неизбежное всегда трио, где только ни начинается у магазинов разгрузка. А вот и Вера, нарядная, яркая, как флаг латиноамериканской державы, даже издали видны взблески от ее золота. Она приметила его, побежала к нему, так женственно-замысловато перебирая полными ногами в джинсах, что жар тот, коснувшийся его у красного дома, теперь просто ожег Павла. Рада ему! Бежит, протянув навстречу руки, чужая и уже не чужая. "Трио" прекратило свою работу, заинтересованно наблюдая, как эти двое сближаются.
- Явился все-таки! - задохнувшись, чуть не добежав до Павла, остановилась Вера. - Где ночь провел и весь вчерашний день? - Она явно ревновала: - Кто это тебе рубашку простирнул и выгладил? Ну, ты даешь! От бабы к бабе! - И вдруг помягчала, наперед покоряясь своей участи: - А разве так хорошо, Паша? У нас ведь все заладилось... - Обернулась к "трио", объявила звонко, победно: - А вот и он! Его не облапошите!
Павел подошел к груде ящиков, за деревянными планочками виднелись сливы, крупные черные сливы. И высилась еще груда коробок с фруктовыми консервами - их этикетки были на коробках.
- Абрикосов Митрич пока не прислал, - сказала Вера. - До выяснения, сказал. Да мне одной бы и не управиться. Я ведь без опыта, Паша.