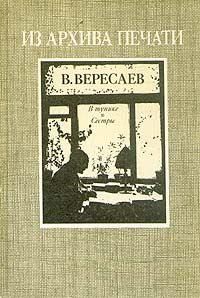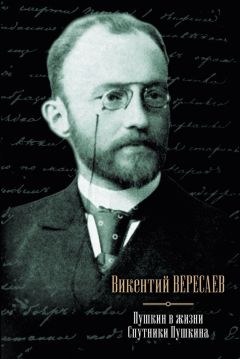– Ну что, Уляша, большевизм, это – дачи грабить?
Уляша застенчиво улыбнулась и опустила глаза. Катя, сквозь стыд, сквозь гадливую дрожь душевную, упоенно торжествовала, – торжествовала широкою радостью освобождения от душевных запретов, радостью выхода на открывающуюся дорогу. И меж бараньих шапок и черных свит она опять видела белые спины в красных полосах, и вздрагивала от отвращения, и отворачивалась.
Громко раздался в тишине голос Леонида:
– Теперь вы будете отправлены на фронт, в передовую линию, и там, в боях за рабочее дело, искупите свою вину. Я верю, что скоро мы опять сможем назвать вас нашими товарищами… – А третьего мы все равно отыщем, и ему будет расстрел… Товарищи! – обратился он к толпе. – Мы сегодня уходим. Красная армия освободила вас от гнета ваших эксплуататоров, помещиков и хозяев. Стройте же новую, трудовую жизнь, справедливую и красивую!
Потом выступил Афанасий Ханов. Он говорил путанно, сбиваясь, но прекрасные черные глаза горели одушевлением, и Катя прочла в них блеск той же освобождающей радости, которая пылала в ее душе.
– Товарищи! Вы сейчас, значит, слышали, что вам объяснил товарищ Седой. И он говорил правильно… Теперь, понимаете, у нас трудовая власть и, конечно, Советы трудящих… Значит, ясно, мы должны организоваться и, конечно, устроить правильно большое дело… Чтобы не было у нас, понимаете, богатых эксплуататоров и бедных людей…
Катя шла домой коротким путем, через перевал, отделявший деревню от поселка. Открывалась с перевала голубая бухта, красивые мысы выбегали далеко в море. Белые дачи как будто замерли в ожидании надвигающегося вихря. Смущенно стояла изящная вилла Агаповых, потерявшая уверенную свою красоту. Кате вдруг вспомнилось:
Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс…
Подведенные девичьи глаза, маленький креольчик и лиловый негр из Сан-Франциско… И грубая, мутно-бурлящая новая жизнь, чудовищною волною подлинных трагедий взмывшая над этой тихою, ароматно-гнилою заводью.
Толстый слой льда, оковывавший душу Кати, растрескался, и шел бурный ледоход, полный радостного шума и весеннего счастья самоосвобождения.
Около двух часов дня в автомобиле с красным флагом по шоссе пронеслись матросы. А в четвертом часу к Ивану Ильичу пришел худенький, впалогрудый почтальон с кумачным бантиком на груди, с огромной берданкой и передал приказ ревкома явиться к четырем часам в сельское правление.
– Зачем?
– Не знаю. Приказано собраться всем взрослым мужчинам из… – Он конфузливо улыбнулся: – из буржуазии. Кто не придет – на расстрел.
Иван Ильич захохотал.
– Вот так, вы меня возьмете и застрелите?
Почтальон виновато улыбнулся.
– Значит, и пожалуйте.
Катя пошла вместе с отцом. В сельском правлении собралось много дачников. Сидели неподвижно, с широко открытыми глазами, и изредка перекидывались словами. Были тут и ласково улыбающийся Агапов, и маленький, как будто из шаров составленный, владелец гостиницы Бубликов. В углу сидел семидесятилетний о.Воздвиженский, с темным лицом, и тяжело, с хрипом дышал. Афанасий Ханов, бледный и взволнованный, то входил в комнату, то выходил.
Иван Ильич спросил его:
– Чего это вы нас сюда согнали?
– Не знаю. Комендант Сычев приказал. Он сейчас приедет из Эски-Керыма.
Вошел артист Белозеров, с пышным красным бантом, с неподвижным и торжественным лицом. В руках у него была бумажка и карандаш. С ним вошел студент Вася Ханов, племянник Афанасия, красивый мальчик-болгарин с черными бровями.
Белозеров сел к закапанному чернилами столу.
– Граждане! Прошу вас поочередно подходить к столу, я должен всех вас переписать.
Иван Ильич громко спросил:
– А позвольте узнать, с кем мы имеем дело?
– Член ревкома, – коротко ответил Белозеров, не глядя на Ивана Ильича.
Всех переписали.
Прошел час, другой. Комендант не приезжал. Собранные покорно ждали. Только Иван Ильич возмущенно ходил большими шагами по комнате. Когда вошел Ханов, он сердито спросил:
– Послушайте, господин, долго вы нас тут будете держать?
Ханов сконфуженно пожал плечами.
– Пойду, еще позвоню по телефону.
Позвонил в Эски-Керым. Комендант-матрос ответил:
– Всем ждать! Приеду.
Солнце склонялось к горам. Местные парни с винтовками сидели у входа и курили. Никого из мужчин не выпускали. Катя вышла на крыльцо. На шоссе слабо пыхтел автомобиль, в нем сидел военный в суконном шлеме с красной звездой, бритый. Перед автомобилем, в почтительной позе, стоял Белозеров. Военный говорил:
– Белозеров, артист государственных театров? Как же, как же! Я вас слышал в Петрограде… А это что там за народ?
– Буржуев собрали, по приказу товарища коменданта.
– А-а! – зловеще протянул военный. – Ну, до свидания! Очень приятно таких людей встречать в наших рядах.
Он благосклонно протянул руку Белозерову. Автомобиль мягко сорвался и поплыл по шоссе. Белозеров пошел к крыльцу. Катя пристально смотрела на него. Белозеров поспешил согнать с лица остатки почтительно-радостной улыбки.
Еще час прошел. Звенел телефон в соседней комнате. Темнело. В правление вошли Ханов и Белозеров.
Белозеров, с серьезным и непроницаемым лицом, сказал:
– Граждане! Я должен объявить вам печальную весть… А впрочем – для многих может быть и радостную, – поправился он. – Вы тоже имеете возможность послужить делу революции. Вы отправляетесь на фронт рыть окопы для нашей доблестной красной армии.
Все молчали. Стало тихо. Слышно было только хрипящее дыхание о.Воздвиженского.
Иван Ильич резко и властно сказал:
– На окопные работы, по советскому декрету, отправляются мужчины только до пятидесяти лет, здоровые. А здесь есть больные, старики.
Белозеров и Ханов недоуменно переглянулись. Опять пошли к телефону. Воротились. Белозеров объявил:
– Все мужчины, без всяких исключений! Больные и старые, – все равно. Все должны отправиться сегодня ночью. Предлагаю вам, граждане, к одиннадцати часам ночи собраться к кофейне Аврамиди. Должны явиться все записанные, под страхом революционной ответственности.
И он вышел. Катя налетела на Ханова.
– Как же так? Что это за распоряжение нелепое?
Ханов растерянно поежился.
– Сычев по телефону велел всех представить. Больных хоть на койках тащить. Если кого оставим, весь ревком на мушку.
– Да поймите, как же больной на койке будет рыть окопы? Вот, например, батюшка Воздвиженский. Ведь вы же сами понимаете, – нелепость!
И вдруг с холодным, усталым ужасом чей-то женский голос произнес:
– Господи! Их везут расстрелять!
Трепет пробежал по всем. Бледный Ханов вышел. Взволнованно стали расходиться.
Иван Ильич с Катей воротились домой. Был уже девятый час вечера. Анна Ивановна торопливо собирала белье и еду. Когда Иван Ильич вышел в спальню, она растерянно взглянула на Катю и сказала:
– Леонид объявит там, что Иван Ильич бежал из России от чрезвычайки.
Катя нетерпеливо воскликнула:
– Ах, мама, ну что за вздор говоришь!
Вошел Иван Ильич, они замолчали. Катя, спеша, зашивала у коптилки продранную в локте фуфайку отца. Иван Ильич ходил по кухне посвистывая, но в глазах его, иногда неподвижно останавливавшихся, была упорная тайная дума. Катя всегда ждала в будущем самого лучшего, но теперь вдруг ей пришла в голову мысль: ведь правда, начнут там разбираться, – узнают и без Леонида про Ивана Ильича. У нее захолонуло в душе. Все скрывали друг от друга ужас, тайно подавливавший сердце.
Только что поужинали, опять явился почтальон с винтовкой и уже сурово сказал:
– Что же не идете? Все уж собрались, вас ждут. Приказано вас привести.
Катя властно ответила:
– Можете идти. Мы сейчас выходим.
Почтальон помялся, сказал: "Поскорее велели!" – и ушел.
Оделись. Катя взяла саквояж. Иван Ильич остановился у двери:
– Ну, Анечка, тут простимся!
Он мягко улыбнулся беззубым ртом и раскрыл объятия жене. Анна Ивановна всхлипнула и припала к нему.
– Старенькая моя! – умиленно сказал он, и гладил рукою ее волосы.
Потом лицо его стало серьезным и прислушивающимся, он снял с пальца обручальное кольцо и протянул жене. Анна Ивановна отшатнулась.
– Ваня, что это ты!.. Зачем мне твое кольцо? Ведь это… Это только у покойников берут!
С тихою улыбкою Иван Ильич ответил:
– Может быть, так надо!
И они опять прильнули друг к другу.
– Ну, идем! – весело сказал Иван Ильич.
У кофейни стояло несколько мажар. Старуха жена и дочь поддерживали под руки тяжело хрипящего о.Воздвиженского, сидевшего на ступеньке крыльца. Маленький и толстый Бубликов, с узелком в руке, блуждал глазами и откровенно дрожал. С бледною ласковостью улыбался Агапов рядом с хорошенькими своими дочерьми. Болгары сумрачно толпились вокруг и молчали. Яркие звезды сверкали в небе. Вдали своим отдельным, чуждо ласковым шумом шумело в темноте море.