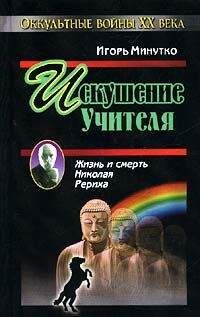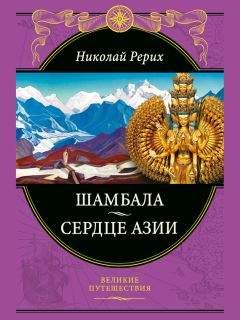Сидел со злобными лукавцами, но уберегся. Бедствовал с глупцами, но устоял. Так было нужно. Это правда, никому не сказанная.
Сказал Иоанн: "не болей, придется много для Родины потрудиться". А ведь после болезни он не видал меня десять лет. И узнал. Остаиовил и сказал.
Во всех бедствиях приближались новые люди. Нежданные. И протягивали руку. И предупреждали зло.
И несли помощь.
Вот стоим перед темнотою. Знаем властные зовы и провозвестия, не знаем происходящее.
Не знаю о друзьях. Не обменяю друзей моих на врагов. И горжусь, что эти друзья были друзьями. Знайте - это друзья мои.
И врагами моими горжусь. Врагами мне посланы те, кого постыдно было бы друзьями считать.
Назвать нашу жизнь бедной нельзя. Жизнь была особенной. Немногие ее знали. Волком, в стае, я никогда не ходил. Пусть буду медведем, лишь бы волком не быть.
Поймете?
Делаю земной поклон учителям. Они внесли в жизнь нашу новую опору. Без отрицаний, без ненавистных разрушений они внесли мирное строительство. Они открывали путь будущего. Они облегчали встречи на пути. Встречи со злыми, встречи с глупыми и с безумными...
И природа помогала в этих встречах. В ней забывались люди. В ней копились силы против злобы и против глупости. Невежество и пошлость. Еще страшнее злобы они.
Где. оно - облако благодати, чтобы покрыть ожесточение сердца? Какою молитвою молчания можно вернуть тишину? Каким взором можно взглянуть в бездну неба?
Все строения разрушаются бездонным творчеством облачным. Не в храм рукотворный, но в пустыню тишайшую отдам молитву мою. Выше облачных сводовше созидалось храмов. Ярче звезд и луны не светили огни торжеств.
Измышления человеческие не испепеляли грознее молнии.
Не уносили из жизни мощнее урагана. Где отличить то, что должно погибнуть, и то, что должно породить следствия. В великана Голиафа верили толпы и что для них был Давид?
Среди безумия толпы, что им чудо? Какими бы словами ни говорить людям о чуде, они будут глухи к этим словам. Понятия вражды и ссоры им гораздо ближе. Нужно уничтожить все, что угрожает и вредит мирному строительству, знанию и искусству. Всякая распущенность мысли погибнуть должна. Всякая невежественность погибнуть должна.
Кончится черный век наш.
Что произойдет еще?
Неужели еще раз увижу себя расстроенным? Неужели еще придется уйти в тишину? Кто уж заставит меня сделать это? Как будут выглядеть эти люди? Но тогда, друзья, вы узнаете все немедля, чтобы сердце ваше не ожесточалось напрасно. И тогда расскажу не только тебе, друг, но и другим, которых я еще не узнал.
Расскажу смелым искателям, опьяненным загадками; расскажу чтецам звездных рун, чьи души привлекаются песней. И там, где вы можете знать, вы будете презирать доказательства. Эти смешные нелепые показания свидетелей. Слепых и глухих. Друзья мои, я вас еще не знаю, но вы. уже проходите близко. Озаренные пламенем. Друг, ты, может быть, торопишься куда-то по делу?
Или спешишь на обед? Или должен вежливо отвечать на какие-то случайные вопросы? И тебе сейчас далеки мои строки?
Шучу. Знаю, что эти строки тебе близки. И душа твоя не торопится. Идет твердо. Уже не боится влияний...
Больше писать не могу. Человек на сойме кончил свой лов. Торопит е ответом. Если не успею отослать теперь, задержу месяца еще иа два. А может быть, и делыне.
Уже нагромождаю второпях. Хочется еще многое еказать. Так ты получишь? Где получишь?
Кончу.
Мы увидимся. Непременно увидимся.
Не только увидимся, но после работы еще поедем с тобою или в .......или на берега....... в.......Туда, где нас ждут, где ждет нас работа. Ведь для этой гармонии жизни уже работают реально и, в братстве, возводят ступени храма.
Звучит благовееть. Даже сюда залегают зовы.
Кончу словами белой книги. Помнишь, ее мы любили вместе читать:
"Знай, что то, которым проникнуто все сущее, неразрушимо. Никто не может привести к уничтожению то Единое, незыблемое.
Преходящи лишь формы этого Воплощенного, который вечен, неразрушим и необъятен.
Поэтому сражайся.
Милый, веди свою битву! Мощно веди! Разве мы но увидимся? Знаем, где ждут нас, Душевно с тооою........
Кончаю тем, чем начал.
Прости меня, друг, если я напечатал твое письмо.
Знаю, ты простишь мне. О тебе писалось всегда много ложного. Часто твои дела истолковывались неверно. Так же и будет много писаться. Такие же будут толкования.
Ноты всегда стремился к ясности. Мечтал о возможности жизни, открытой перед лицом всех людей. Мечтал о ясном труде. Ты вспоминаешь нашу милую белую книгу, Продолжу из нее:
"Взирай лишь на дело, а не на плоды его. Да не будет побуждением твоим - плоды деятельности.
Отказываясь от привязанности, оставаясь одинаково уравновешенным в успехе и в неудаче, совершай деяния в слиянии с Божественным".
Верю, что ты вернешься. Жду тебя, друг мой,
Tula la. Сентябрь 1918
ПО ПУТИ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ
Плывут полунощные гости.
Светлой полосой тянется пологий берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного, весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловатые полосы и круги. Стайка чаек спустиласьна волны, беспечно на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями - всполошило их мирную жизнь что-то, мало знакомое, невиданное. Новая струя пробивается по стоячей воде, бежит она а вековую славянскую жизнь, пройдет через леса и болота, перекатится широким полем, подымет роды славянские - увядят они редких, незнакомых гостей, подивуются они на их строй боевой, на их заморский обычай.
Длинным рядом идут ладьи; яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким, стройным носом-драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи, У дракона пасть красная, горло синее, а грива и перья зеленые. На килевом бревне пустого места не видно - все резное: крестики, точки, кружки переплетаются в самый сложный узор. Другие части ладьи тоже резьбой изукрашены; с любовью отделаны все мелочи, изумляешься им теперь в музеях и, тщетно стараясь оторваться от теперешней практической жизни, робко пробуешь воспроизвести их - в большинстве случаев совершенно неудачно, потому что, полные кичливого, холодного изучения, мы не даем себе труда постичь дух современной этим предметам искусства эпохи, полюбить ее - славную, полную дикого простора и воли.
Около носа и кормы на ладье щиты привешены, горя г под солнцем. Паруса своей пестротою наводят страх на врагов; на верхней белой кайме нашиты красные круги и разводы; сам парус редко одноцветен - чаще он полосатый: полосы на нем или вдоль, или поперек, как придется. Середина ладьи покрыта тоже полосатым наметом, накинут он на мачты, которые держатся перекрещенными брусьями, изрезанными красивым узором, - дождь ли, жара ли, гребцам: свободно сидеть под наметом.
На мореходной ладье народу довольно - человек 70; по борту сидит до 30 гребцов. У рулевого весла стоят кто посановитей, поважней, сам конунг там стоит. Конунга можно сразу отличить от других: и ту рви рога на шлеме у него повыше, и бронзовый кабанчик, прикрепленный к гребню на макушке, отделкой получше. Кольчуга конунга видала виды, заржавела она от дождей и от соленой воды, блестят на ней только золотая пряжка-фибула под воротом да толстый браслет на руке. Ручка у топора тежа богаче, чем у прочих дружинников, - мореный дуб обвит серебряной пластинкой; на бокубольшой загнувшийся рог для питья. Ветер играет красным с проседью усом, кустистые брови насупились над загорелым, бронзовым носом; поперек щеки прошел давний шрам.
Стихнет ветер - дружно подымутся весла; как одномерно бьют они по воде, песут ладьи по Неве, по Волхову, Ильменю, Ловати, Днепру - в самый Царьград; идут варяги на торг или на службу.
Нева величава и могуча, но исторического настроения в ней куда меньше по сравнению с Волховом. На Неве берега позастроилиеь почти непрерывными, неуклюжими деревушками, затянулись теперь кирпичными и лесопильными заводами, так что слишком трудно перенестись в далекую старину. Немыслимо представить расписные ладьи варяжские, звон мечей, блеск щитов, когда перед вами на берегу торчит какая-нибудь самодовольная дачка, ну точь-в-точь - пошленькая слобожанка, восхищенная своею красотою; когда на солнышке сияют бессмысленные разноцветные шары, исполняющие немаловажное назначение - украсить природу; рдеют охряные фронтоны с какими-то неправдоподобными столбиками ы карнизами, претендующими на изящество и стиль, а между тем любой серый сруб - много художественнее их.
За всю дорогу от Петербурга до Шлиссельбурга выдается лишь одно характерное место - старинное потемкинское именье Островки. Мысок, заросший понурыми, серьезными пихтами, очень хорош; замкоподобная усадьба вполне гармонирует с окружающим пейзажем. Уже ближе к Шлиссельбургу Нева на короткое время как бы выходит из своего цивилизованного состояния и развертывается в привольную северную реку, - серую, спокойную, в широком размахе, обрамленную темной полосой леса. Впрочем, это мимолетное настроение сейчас же разбивается с приближением к Шлиссельбургу. Какой это печальный город! Какая заскорузлая провинция, - даже названия улиц и те еще не прививаются среди обывателей.