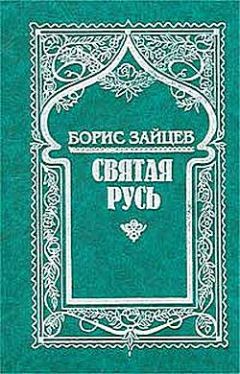Что уж там насчет зеленых псов, плохо ваше дело, repp Бирге, маслянистый Орешка вас объедет, он уж объезжает вас, забирает вашу армию, в дамки лезет. «Хе-с! Хе-с, это как у князя Курцевича, быстрота, натиск». Орешка залился рассыпчатым смешком, лицо сияет блином, на носу выступили капельки, как Божья роса, и он от восторга сейчас обратится в жирный ком и покатится мелким бесом, вприпрыжечку.
Ужинаем мы тут же, на том самом столе, где была битва. Редиска полковничья с маслом – восторг; он изжарил еще «клетцечки» – он говорит «крючечки» и потчует с видом старого кухонного маэстро. Орешка усасывает творог; Бирге взгрустнул что-то, видно, о проигрыше затосковал.
«Вы, хороший мой, куражу не теряйте: этот Орешка без мыла между балясинами пролезает, его на том свете, хе-хе, как клетцечки поджаривать будут». А в самом деле, идея: поджарить Орешку на чертовом огоньке, воображаю, что за славный сок он даст. «Им, вообще, иностранцам, против нас здесь трудно: языка не знают, словно в лесу дремучем, сердяги». И полковник рассказал, как еще в гимназии немец объяснял им залоги: «Волк ел коза – действительный, коза ел волк – страдательный».
Мы веселимся. От бутылочки портеру Бирге тоже прояснился и задымил с тройной силой. Далеко на деревне пели песни, взвизгивали временами – это мой Петька не дает спуску девкам, а мы отхлебываем темной влаги с сыром, смеемся, дышим. Но, как и раньше, бархатный шатер над нами, девичьи взоры звезд, – и так странно: хохочешь над толстым сыроваром, его лысиной, и вдруг поднимаешь глаза выше, – и увидишь его звезду; стоит над ним, как над полковником, Орешкой, мною; его сыроварская звезда, не стесняясь тем, что, может быть, он совсем и не знает, что такое залог. Ее тонкие лучики отсвечивают в его лысине, а другие обтекают все филистерское тело, брюхо, – но ничего, не стыдятся.
«Полковник, голубчик, завтрашних тетеревов опять прозеваем, будет вам яриться, право». – «И нам-с пора, и нам-с, ки-хи… еще много завтра дел…» Орешка надевает широкополую шляпу, бандитскую: «Нам-с еще нужно бы тут на деревню пройтись – ки-хи-хи, тут у вас вечером относительно прекрасного полу превесело бывает-с. Вы как находите, господин Бирге?» У Бирге только живот поколыхивается от смеху: «А вы думаэте, нас не побьют?»
Ну, с Улиссом, как Орешка, хоть куда можно. Мы же с полковником долго еще сидим, курим, ведем разговоры. Понемногу все смолкает на селе: разбрелись визжавшие девки, Петька мой лазает где-то за плетнем в коноплях, а над всем мягко льет сумрак, ночь млеет.
«Шлафен», – говорит полковник. Спать, так спать. Розов сам возится, приготовляет, – а спать все же в его комнате трудно: жара. Висят ятаганы, винчестеры, блохи скачут эскадронами, и там, на большом турецком диване, белеется сам полковник, и краснеет его папироска. Заснул, наконец – теперь можно и улизнуть. Начинает сереть небо, звезды побледнели, это час белых утренних духов, туманов, птиц небесных.
Хорошо – устроиться на телеге с сеном; сено щекочет, но пахнет, и в темноте навеса близко жует теплая лошадиная морда. «Вот тебе раз! Было сено, а вдруг теперь человек», – морда фыркает, и на своем лбу я чувствую ее встряхивающиеся губы. Тихо, тихо; почивайте, полковник, Петька, Бирге, Орешка, Джон и Скромная, – я послушаю раннее утро, подышу запахом сена, погляжу, как вечные куры гомозятся на насесте – подремлю сам, может быть, в прохладе утренника.
Мы спим. Но что такое? Вот открываю глаза, и во все щели струями свет, свет! Скорей на воздух, не упустить минуты, за сарай, к саду. Оттуда тянет огненный бриз, точно шелковые одежды веют в ушах, и, кажется, сейчас побежишь навстречу, и пронижут всего, беспредельно, эти ласкающие лучи; волосы заструятся по ветру назад, как от светлого, плывучего тока. О, солнце, утро!
Полковник мой спит еще, розовый отблеск покоится на сухоньких его чертах, вся изба поседела от росы – и так хочется припасть к этому старому старикану, поцеловать его в лоб, как отца, – жаль будить: стареньким и спать-то только под утро.
В семь часов мы готовы. В беседке Розов «сервирует» чай, мы наливаем с густейшими сливками, вокруг повилика обняла тонкими кольцами решетку, и высоко в небе че-шуятся облачка: баранчики. Это уж скромный, трезвый день. Полковник умыт, нас ждут собаки и тетерева. Хорошо ли я спал? Отлично. Философствуем слегка. «Вас, полковник, в генералы бы должны произвести. Признавайтесь, очень ведь свирепый?» – «Ду-шка, война вздор; самое лучшее в войне – домой ворочаться и пенсии ждать. Наилучшее-с». Ну Пальмерстон! Я-то думал, десятка три турков на своем веку укокошил.
А потом, когда выступаем в поход, полковник даже похож на Следопыта: «длинноствольная винтовка» какая-то. Я тоже с ружьем, но на сердце у меня весело и несерьезно до последней степени: не похоже что-то дело на тетеревов, совершенно не похоже. И проспали слегка, да и солнце, дай Бог ему здоровья, растопило воздух: пышущие волны плавают над полем, как напоены они глубочайшим, шелковым духом, ароматами, нагретым сеном, волей! Джон с Бисмарком давно друзья: в овсах только хребты их выныривают – носятся, как сумасшедшие.
«Тут, батенька, в этой курпажине выводкам быть да быть: замечаете, линяли, помет, а земляничка плоха?»
Правда, мы бредем уж струящимся в ветре березняком. Здесь в ранней тиши утра тайными тропами бродили все эти славные тетеревята за своей мамашей, и глупый черныш «монах» сидел где-нибудь в кусте и тарахтел, чуфыкал, раздувая красные брови. Только – было, да сплыло. Теперь жарко, все в чаще, – а потом, Джон! Джон безумный! «Джон, куда тебя черти носят? Джон, анафема!» Но Джон в солнечном трансе, – вместо того чтобы чинно разнюхивать тетеревиные следы, носится, как угорелый – тр-р-р, тр-р-р – ну, конечно, поразгонял в чаще всех косачей, цыплят, мамаш. Надо б тебя орясиной, как Брец советовал, да уж видно твое счастье – самому разве побегать, высунув язык, в этих кустах, березках, огненном аромате? Нынешний воздух ведь это «ром неба». Нехитро и человеку ошалеть.
А у полковника через плечо фляга – понимаю, в чем дело, – это «огненная вода». Слушайте, Розов, невозможно все же на охоте ни разу не выстрелить?
Ах, глупо несколько, но хорошо, как хорошо, забежать вглубь, в лес, и палить – раз, раз, так, на воздух, с добрыми намереньями, в. честь неба, солнца, полковника, Джона!
«Голубушка, вы того… насчет головы у вас как? Не очень нагрело?» Следопыт думает, что я рехнулся, говоря короче, – нет, я могу еще посоображать. Например, с удовольствием выпью «воды жизни», позавтракаю с полковником здесь, в лесу, в тени раскидистого баобаба, даже Джона покормлю чем-нибудь. А потом солнце перейдет меридиан, полковник разомлеет, я уложу его вздремнуть, буду улыбаться неизвестно чему, Бог знает о чем мечтать, чего никогда не будет, – и отмахивать веточкой мух от полковничьего лица.
Все-таки – надо домой. Свечерело, и тележка моя подана, у крыльца. «Прощайте, дорогой, крепко, крепко вас целую. Дай вам Бог». – «Нельзя-с, провожу вас пять минут» – это полковник сел на козлы, прямо с земли шагнул длиннейшими своими ногами – корабль наш поплыл. Как мы устали, у всех кружатся немного головы – это от деревенского вина – неба и воздуха. Но приятно ехать с чуть затуманенной головой, полтора десятка верст мимо зелени, в нивах, большаками.
«Вот-с, с горы осторожней, а за сим Господь с вами. Спасибо, не забыли старика». И снова поцелуй, и потом сразу мы катим под гору, а полковник сверху машет, похожий на высокий четырехугольный крест или на Соколиного Глаза. Прощайте, прощайте, Соколиный Глаз – привет вам за волю, за сердце чистое – привет!
Он тонет в зеленеющем небе. Мы же катим. Мы едем с пустыми руками, все наши тетери мирно дремлют сейчас под кустами, мы неудачники, – но это ничего: Джон ласково жмется, и зеленые поля раздвигаются пред нами великими покровами, и небо несет свой купол без конца, без конца – все Они сводят нам в души глубокий мир. О, шуми, шуми, ветер, говори о просторах, дальних звездах, радости. Прощайте, полковник, привет!
1907
Глашка подхватила Горбатого за ногу, вправила за постромку и тронула борону сильным, ровным ходом. Борона зашуршала, из-под нее задымилась сентябрьская свежая земля и полетели комья. Сзади пошла бархатная полоса, атласистая, влажная. Но Глашке интереснее вперед, чем назад. Вон там, у дубовой рощи, где кончается господское поле, двинулся навстречу с бороной Гаврила. С самого раннего утра нынче, еще как алела заря за барской усадьбой и чернели в ней поредевшие березы, вышли они с Гаврилой на это поле и не покладают рук. Идти по чернозему тяжко, Глашуха запыхалась, но все же весело, – молодое, могучее, что залегло в ее пышущем теле, гонит вперед, к этой середине, где они встретятся: верно, у Гаврилы что-нибудь развяжется в упряжке, а, может, и у ней самой, а то просто взглянуть друг на друга – тут и разговора не надо, само понятно.