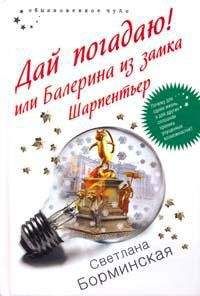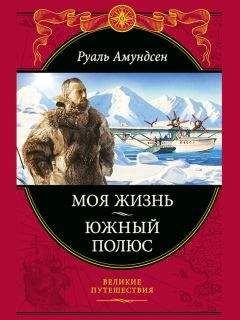— Я не обязан лазить по лестницам, которые пляшут; дермо и дермо, — ответил француз, но все же сбросил намокший плащ, под которым у него оказался короткий карабин, и тяжело полез на баржу. Встал наверху, раздвинул ноги, щелкнул затвором. — Матрос идет первый, — сказал он хрипло, как команду. Только теперь Невзоров увидел его лицо: огромное, багровое, с низким лбом. Он глядел мутно и не мигая из-под косматых бровей. Ротмистр перевел его слова:
— Матрос, наверх!
Филька побелел. Потянул кандальную цепь. Продвинулся к лестнице.
— Часы серебряные отошлите жене, — сказал он Ливеровскому, — не забудьте, пожалуйста. — И он медленно полез на баржу, глядя в глаза французу.
— Живее, сволочь! — крикнул ему ротмистр. Уже наверху Филька вдруг дико закричал:
— Не я, не я, это не я, ошибка! — и начал бороться с палачом. Невзоров зажмурился. Раздался выстрел. Минуту спустя прохрипел голос француза:
— Граф Шамборен!
Шамборен порывисто поднялся и сейчас же снова сел на скамью. Тогда подросток, весь сотрясаясь, беспорядочно дергая затвор винтовки, захлебываясь матерными словами, принялся толкать Шамборена, — «иди, иди!..». Лодка раскачивалась. Невзорова охватил дикий ужас. Больной, раскаленный зуб вонзился в глубь мозга.
— Стыдно, граф, — баском сверху прикрикнул ротмистр, — давайте кончать. — Тогда Шамборен кинулся к лестнице. Едва его кудрявая голова поднялась над палубой, — француз выстрелил. Шамборен покачнулся на лестнице, сорвался, и тело его упало в море. Студеные брызги хлестнули в лицо Семену Ивановичу.
Тем же утром, бредя по улице, как во сне, на ваточных ногах, Семен Иванович остановился у облезлого забора и долго глядел на большой, недавно наклеенный цветной плакат, где были изображены крепко пожимающие друг другу руки: француз, русский и англичанин. За спиной их Георгий Победоносец поражал красную гидру революции. Кто-то карандашом подрисовал ему длинные, закрученные усы.
Семен Иванович долго стоял перед этой картинкой. Не домой же идти, не спать же ложиться! Он вынул карандаш и подрисовал закрученные усы французу, потом подрисовал такие же усы англичанину.
— Ах, боже мой, боже мой! — громко проговорил он, помусолив карандаш, и тщательно выковырял глаз русскому.
В это время издалека стали набегать мальчишеские, сенсационные голоса газетчиков. Они кричали, видимо, что-то очень страшное. Редкие в этот час прохожие выхватывали у них газеты. На перекрестке собралось десятка два возбужденных читателей.
Семен Иванович лениво взял сунутую ему пробегавшим мальчишкой газету и прочел:
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Союзники сообщили, что лишены возможности доставить в ближайшее время продукты в Одессу.
Поэтому, в целях уменьшения числа едоков, решено приступить к разгрузке Одессы.
3 апр. 1919 г.
Ген. д'Ансельм
— Эвакуация! Эвакуация!.. — донесся до Семена Ивановича дикий ропот голосов с перекрестка.
Выдумали же люди такое отвратительное слово — «эвакуация». Скажи отъезд, переселение или временная, всеобщая перемена жительства, — никто бы не стал, вылупив луковицами глаза, ухватив узлы и чемоданы, скакать без памяти на подводах и извозчиках в одесский порт, как будто сзади за ним гонятся львы.
«Эвакуация» в переводе на русский язык значит — «спасайся, кто может». Но если вы — я говорю для примера — остановитесь на людном перекрестке и закричите во все горло: спасайся, кто может! — вас же и побьют в худшем случае.
А вот — не шепните даже, прошевелите одними губами магическое, ибикусово слово: «эвакуация», — ай, ай, ай!.. Почтенный прохожий уже побелел и дико озирается, другой врос столбом, будто нос к носу столкнулся с привидением. Третий ухватил четвертого:
— Что такое? Бежать? Опять?
— Отстаньте. Ничего не знаю.
— Куда же теперь. В море?
И пошло магнитными волнами проклятое слово по городу. Эва-ку-ация — в трех этих слогах больше вложено переживаний, чем в любой из трагедий Шекспира…
…Муж уезжает в одном направлении на пароходе, жена на поезде в другом, а сынишка — вот только что держали его за руку — внезапно потерялся и, наверно, где-нибудь плачет на опустевшем берегу…
…Еще сегодня утром человек был диктатором, приказал повесить на габарите железнодорожного моста — на страх — начальника станции, помощника начальника и третью сомнительную личность с татуированными руками, а вечером тот же человек приткнулся с узелочком у пароходной трубы и рад, что хоть куда-то везут…
…Удачливый делец только что добился поставки на армию, и жена его уже собралась приобрести у фрейлины, баронессы Обермюллер, котиковое манто с соболями, — ой, все полетело к чертям! — и поставка и манто, чемоданы с роскошным бельем угнал негодяй ломовик, и даже при посадке вчерашний преданный друг, один гвардеец, который так заискивал, целовал ручки, вдруг хватил дельцову мадам ножнами по шляпе и спихнул ее с вагонной площадки…
Нет, не перечислить всех странностей и бед во времена эвакуации. Человек вывертывается наизнанку как карман в штанах, — едет, скачет, а то и просто бежит пешком с тремястами карбованцев, не годных даже на скручиванье собачьей ножки, в курточке из материи, предназначенной для других целей. В голове дребезжит, будущее совершенно неопределенно. Говорят — русские тяжелы на подъем. Неправда, старо. Иной, из средних интеллигентов, самой судьбой определен жить и умереть в захолустье, а глядишь — сидит на крыше вагона, на носу — треснувшее пенсне, за сутулыми плечами — мешок, едет заведомо в Северную Африку, и — ничего себе, только борода развевается по ветру.
Семен Иванович Невзоров бывал в переделках и похуже той, что случилась в Одессе пятого и шестого апреля. Ничего необыкновенного там не случилось. Население из центра города колесом скатилось в порт, а в центре появилось население из окраин, нимало не огорченное тем, что иностранные войска садятся на транспорты, а у русских войска сухим рейсом уходят в Румынию. Торговцы деньгами и накладными по врожденной привычке собрались было на углу Дерибасовской, но под давлением легкого ружейного огня впали в нервное состояние и рассеялись. Кафе Фанкони закрылось. В городской думе уже сидел совдеп, а по набережной, мимо герцога Ришелье, все еще двигались уходившие повозки, кухни, пушки, равнодушные зуавы. Здесь, на бульваре, бродили те, кто не мог уехать, и остекленевшими глазами глядели на пароходы, на черные дымы из труб.
Ах, эти дымы, заржавленные пароходы! В порту, плечо к плечу, стояли тысячи уезжавших, — узенькие мостки-сходни отделяли постылую Россию от райских стран, где нет ни революций, ни эвакуации, где пятиэтажные магазины, полные роскошной и дешевой одежды, где спят в кроватях (а не на столах и не в ваннах), где по своей надобности человек, не стоя ни в какой очереди, идет в чистое, снабженное обильной водой, освещенное электричеством место и сидит там, покуда не надоест… Где на каждом перекрестке возвышается строгий и справедливый полисмен и день и ночь охраняет покой горожан и священную собственность. Где автомобили не реквизированы и улицы блестят, как паркет. Где не стреляют из пулеметов и не ходят с проклятыми флагами, где при виде обыкновенного рабочего не нужно косоротиться в сочувственную или предупредительную улыбку, а идти себе мимо пролетария с сознанием собственного достоинства…
От всего этого отделяло только несколько шагов по сходням. Об этой лучезарной жизни кричали пароходы на внешнем рейде, — увооооозим за граниииииицу! А со стороны вокзала, Фонтанов и Пересыпи уже постреливали красные. Множество катеров, лодок, паромов, — груженные людьми и чемоданами, — уходило к внешнему рейду. На берегу визжали лошади, трещали телеги, валились чемоданы, работали, на прощанье, жулики по карманам.
— Граждане, — кричал веселый чернобородый матрос, въехавший с возом с адмиральским имуществом в гущу народа, — дорогие мои, зачем бегите?.. Тпру, балуй, — хлестнул он по мерину, начавшему сигать в оглоблях, — оставайтесь, дорогие, всем хорошо будет… Эх, горе, чужая сторона! — И он так и залился смехом.
— Господин офицер, — шумели у сходней, — да пропустите же меня, у меня ноги больные… Двое суток ждем, это издевательство какое-то над личностью… У меня ребенок помирает, а вы спекулянтов, корзины по двадцати пудов грузите…
— Осади, не ваша очередь!.. Куда на штык прешь, назад!.. Паспорта, паспорта предъявляйте…
Семена Ивановича вся эта суматоха мало занимала. Он стоял на борту парохода «Кавказ». В мыслях был счастливый переполох. Наконец-то оторвались его подошвы от российской земли. Даже слюна у него набегала непрерывно, и он сплевывал за борт в воду, где плавала багажная корзина, сорвавшаяся с трапа.
Со вчерашнего дня Семен Иванович разговаривал с сильным иностранным акцентом. По паспорту он именовался бывшим русским подданным, Симоном Навзараки. Пять тысяч франков и чемодан с драгоценным каракулем создавали ему душевное равновесие. От прежнего Невзорова, суетливо гонявшегося за блестками счастья, от мечтателя, кутилы и фантазера не осталось и следа. Чувствительную душу его выела русская революция. Теперь это был расчетливый и осторожный спекулянт.