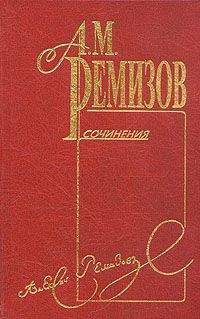— В нашем царстве…
— Мы крепки в огне, мы не дрогнем. Заведем хоровод, и летаем по полю-приволью. Смерть с нами. Вон она машет костлявой косовой рукою! Стук да постук, властница смерть! А нам своя воля гулять!
3
Зеленоватая ночь, туманная, в колеблющихся тучах.
Не слышно ни звуков, ни голоса. Но все живет, завеянное зеленоватым светом.
И кажется, пройдут века, и ничто не шелохнется, никто не подаст голоса.
Бесшумно подымаются мысли, идут и замирают, сливаясь с зеленоватым светом.
И то, чего минуту так сильно желал, отступает.
С отчаянием я вызываю пережитое. Но все замолкло и прячется.
Прямо через окно идет зеленоватый свет, идет и проникает в душу.
Не смерть, нет смерти в этой ночи, есть своя странная жизнь.
Уж не такая ли вечная жизнь?
Медленно впитывается зеленоватый свет, медленно обволакивает душу.
4
Здравствуй, Сорока!
Откуда прилетела!
Побелел твой передник… или примерз к тебе снег.
Что, Сорока, мерзнешь?
Под моим окном не тепло. Сорока, ты дрожишь? Спрячься под крышу, там дождешься тепла. Я ничего не могу тебе дать.
Ты давно тут живешь, после долгой зимы оживаешь И летишь, чуть пригреет весеннее солнце.
Сорока, скажи мне, Сорока, как ты выносишь морозы? Научи меня, как учишь детей своих… Сорока! я замерзаю.
5
В бледном тающем свете темная тень на крыльце.
В белом венчике месяц плывет.
Частые звезды.
А вдоль леса сонная туча, как тяжелая самка, весенняя вестница.
Скрипят старые сосны.
И вдруг переклик петушиный…
И кажется, где-то уж солнце играет и прыгает сердце — глупый малый зверок.
6
Лебеди, белые лебеди! Снова к нам, не забыли.
От нашего крика, от шелеста крыльев земля сбрасывает белую шубу.
Помните, вы улетали, и гнался за вами снежный буран.
Я провожал вас.
Лебеди, белые лебеди!
Дни проходили в молчании.
Хмурые тучи по сердцу ходили.
Лебеди, как высоко вы летите…
Если б и мне полететь!.
7 Кладбище
Лучистое солнце неугомонно-порывисто дышит на пробуждающуюся землю.
Над головою, в густой теплой сини, вереницы птиц.
Под ногами ярко-зеленые нетронутые побеги первых травок.
А речное царство — голубое поле, изборожденное золотисто-отливными волнами, растет с часу на час и осаждает берег, берет острова, подходит к лесу и, врезаясь в глубь леса, плывет бурливо среди старых, поседевших елей по хрустящим мхам и медвежьему следу. К вечеру, на ало-пурпурной заре, река займет от края и до края всю полосу, зальется в пунцовый терем солнца, под его разноцветно-облачную кровлю.
Такая поднялась повсюду жизнь: и в темных покосившихся дряхлеющих избушках, и по дорогам — еще сырым и вязким, и по дворам, и в моем сердце…
Кто это музыку разлил под лазурным сводом, звучащую ширь глубокой грусти — кто это глядит влюбленно с каждой земной пяди?
Миновав серый частокол острога, поле ласковой озими, я спустился под гору и вышел к кладбищенской ограде.
Целый цветник крестов встретил меня, весело перемигиваясь.
И мшистые надгробные ящики, как старики, загораживаясь ладонями от солнца, защурились.
Поодаль, у свеже-желтой могилки, у одинокого тесового креста, копошился живой цветник детских глазенок, детских рубашечек, детских головок.
А на зеленой кровле белой церкви старая ворона, словно нянька, чистила лапкой свой затупелый клюв.
И высоко, выше церкви, выше колокольни шумели развесистые кедры.
Лес зеленых хвои разыгрывал на своих мягких травинках странные песни: и похоронные, и разгульные, и плакательные.
Я стою под пышными кедрами, прислушиваюсь к их переменчиво-шумящему голосу, залитому зардевшимся лучом запыхавшегося солнца, в золоте капелек-струек которого рождались все новые и новые жизни.
Или это моя песня?
Падают кресты, последняя память мешается с песком и щебнем, а вековечно-зеленые кедры, не переставая, шумят и шумят, как эти дети, — кедры зеленые…
Отрывисто ударили на колокольне в малый колокол. И мимо меня, спеша, прошла краснощекая женщина в ярко-кумачном платье, простоволосая, а на руках у нее покачивался белый тесовый гробик ребеночка с восковым личиком и полураскрытыми желающими губками.
— Христос воскрес! Христос воскрес! — выкрикивали тоненькими голосками ребятишки, вприпрыжку догоняя гробик.
На колокольне звонили отрывисто в малый колокол.
Шумели кедры.
И пробивался издалека гул внепрепонного половодья.
8 Радуга
В загустевшем матово-золотом воздухе с рассвета реяла сиреневая капелька-птичка, беззаботно переговаривая свою незатейливую песенку.
Толклись без устали неугомонные толкачики.
Беловатые балованные тучки, бродившие дремно по востоку, протянули полднем пуховые руки, схватились и, ластясь друг к дружке, поплыли.
И зарычали напряженно-немые сумрачные тучи протяжно и глухо.
И упали душистые дождевые капли. Западали быстро и шумно.
Это Весна шла, трубила в свой олений рог, — Весна шла в след разыгравшемуся нежному стаду барашков. Весна с лицом Белой ночи, в венке белых цветов лесных ягод, увитая с головы до ног пенящимся кружевом бледных мхов.
— Дождик, дождик, перестань! Мы поедем в Аристань: Богу молиться, кресту поклониться! — выкрикивали ребятишки, притопывая босыми ножками и вытягивая загорелые ручонки под улыбающиеся дождевые капли весенние небесные цветы.
* * *
Я поднялся на высокий берег с крутым спуском к затихающей реке.
Греет омытое яркое солнце.
Сквозь тающую тучу врезается в реку широкая радуга — Бык-Корова, выгнанный на водопой после долгой зимы, пестрый Бык-Корова с небесных полей.
Внизу, подо мною, у дверей покачнувшейся старой престарой избушки, промокшей под половодьем, стоит, прислонившись к косяку, белый Водяной, весь заросший луневою бородою, стоит Водяной в длинной белой рубахе, подпоясанной серебряными кольцами, и не спускает глаз с юрко-шныряющей черной лодки, где уселись два Лесных человека с вывороченными пятками.
— Белый! — звонко закричал Лесной человек, и над его вздрагивающей бронзовой спиною взвилась серебристая рыбища.
— Червей подложи! — взвизгнул другой и закурлыкал. В даль затопленного острова улетает быстрая лодка, тесно переполненная женщинами в белых, раздувающихся платках, а взмахивающие весла блестят-играют, точь-в-точь забрызганные крылья чаек.
Что это?… И жалобный крик-оклик, и взрывчатый хохот, и приплясывающая, топочущая воркотня-песня?
Это — Лесные женщины, одинокие, безутешные чайки ищут-летают, это — дети бегут наперегонки по мягко-зеленой тропке в опаловых росинках, это — дети ползут и летят под откос к тихой голубой реке, это — бабочки, жуки, муравьи, гусеницы, в цветистом наряде, с шумом, жужжаньем, стрекотней, с птичьим лепетом.
Чья-то шапка бултыхнулась в воду.
— Га! ха-ха… ха-ха-ха-ха… — загоготала Кикимора.
И! Какой гам, сколько взъерошенных головок! Сколько плеску, хрустальных брызг, мгновенных слезинок… А вот и мохнатый Лешак с еловым лицом.
— Здорово! — ухмыляясь, сжимает мне руку своею смолистой рукою, — и ты пришел, то-то, а зимой и ввек не заглянешь, то-то! — и ковыляет Лешак вниз к реке к Водяному.
Река — небо безбрежно-чистое — и плывет и покоится.
Уйдут забытые тучки, не успевшие рассыпать по земле свои дождинки-лепестки, спадет дневная теплынь, и река загустится, и скользящие лодки — остроносые черные рыбки — станут оставлять синеватый след, как бы движением своим снимая густые румяные сливки.
А край неба и восток покроются ало-пурпурной шелковистою тканью, и будут наливаться, рдеть, пока не дыхнет белая без сумрака ночь, и не зарябится голубой островок зеркальной воды, и тогда запад сольется с востоком в дымящемся густом пурпуре, и по всему небу раскинутся малиново-золотистые лучи, и червонно-золотое солнце глянет на свет Божий.
Взад и вперед юрко шныряет черная узкая лодка. Лесные человеки наклонились на борт и тащат из воды огромную удочку с поленом вместо поплавка.
Высунула Бабушка из низкого оконца суковатое прокопченное лицо, скалит от солнца длинные зубы.
— Бегай ты, башмаков издерешь, на неделю не хватит! — ворчит старая на рыжеватую девчушку с речными глазенками.
А смешливая внучка заливается, и не унять ее. Один за другим, один за другим бежит детвора и машет ручонками, и кричит, и дерется.
И среди пестрой болтающей мелкоты я стою и греюсь, дышу — не отдышусь…
И чувствую, вот взовьются и у меня крылья, и я полечу высоко, к радуге — к Быку-Корове небесных полей.
9 Белая гостья
Она к ночи пришла, бледная и голодная, белая гостья. Пристально взглянула в красный закат.