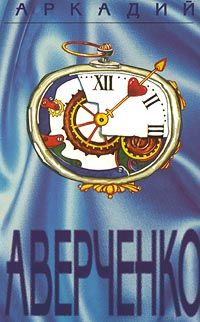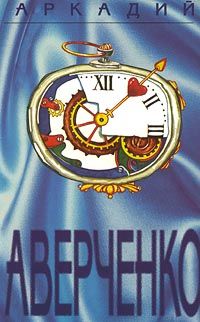— Полосухины.
— Полосухины? — обрадовался я. — Скажи, пожалуйста, это не тот ли Полосухин, у которого в прошлом году дача сгорела?
— Да, тот.
— Ну, так как же! Я его знаю! Еще я тогда пожар смотрел и видел этого Полосухина — вот, как сейчас тебя вижу… А знаешь что? Не пойти ли нам к Полосухиным вместе?
— Да ведь ты не получал приглашения?
— Ну так что ж такое? Не выгонят же они меня?
— Неудобно.
— Да почему?
— Ну, знаешь… В обществе ведь не принято являться в первый раз в незнакомый дом без приглашения.
— Но ведь я же не один, а с тобой.
— Да и со мной неловко.
— Ну почему?
— В обществе так не принято. Светские люди так не делают.
— Не беспокойся, голубчик, — угрюмо возразил я. — Я не хуже твоего знаю эти все светские штучки, что вот, мол, рыбу нельзя есть ножом и прочее. Но в данном случае все это пустяки — если я не вор, не пьяница, то почему же меня не принять? Что, я не такой же человек, как и ты, что ли?
Плешаков неохотно сказал:
— Как хочешь… Если ты настаиваешь — едем. Только ведь ты в пиджаке. Нужно тебе заехать переодеться.
— Да зачем же? Пиджак почти новенький… А что толку в смокинге?.. У другого, может быть, и смокинг есть, да зато портной его день и ночь плачет. Пусть меня судят не по платью, а по моему уму и воспитанию.
— Во всяком случае, — усмехнулся Плешаков, — ты получил довольно оригинальное воспитание…
— Смейся, смейся! Мне хотя не приходилось до сих пор вращаться в обществе, но во всяком случае я рыбу ножом есть не стану!
Мы сели на извозчика и поехали к Полосухиным. Я предвкушал хороший, веселый вечер и поэтому радовался как ребенок.
Насчет моего первого появления и первых приветствий у меня уже сложилось несколько планов.
Можно, во-первых, сыграть роль чудаковатого парня-рубахи и души нараспашку, игнорирующего светские условности, что придает всем его поступкам странную прелесть. Здесь допустима небольшая фамильярность, подшучивание над девицами и любезничание с дамами, что должно вызывать общий смех и восклицания: «Ох уж этот Николай Николаич… Для него нет ничего святого! Только попадись ему на язычок!»
Можно также быть печальным, томным, чтобы было видно, что мысли мои витают где-то далеко, и весь светский шум не долетает до моих ушей… Или еще можно держать себя очень сдержанно, холодно, но в высшей степени вежливо, как и подобает человеку, явившемуся впервые в дом.
Конечно, в том, другом и третьем случае необходимо соблюдение светских приличий, и одинаковым образом как светскость, так и чудаковатость и меланхоличность должны удерживать меня от употребления ножа при операциях с рыбой и от прочих поступков.
— Ну вот мы и приехали к Полосухиным, — сказал Плешаков, соскакивая с извозчика. — Может, ты раздумал?
— Чего там мне раздумывать, — весело возразил я. — Не звери же они, в самом деле. Не съедят меня. Ты меня только не забудь представить.
Плешаков промолчал, и мы, поднявшись по лестнице, позвонили…
II
После полутемной передней гостиная показалась ослепительной. Я на секунду приостановился, но сейчас же, ободрившись, двинулся вперед.
— Вот это хозяйка, — шепнул мне Плешаков.
— Позвольте представиться! — сказал я, улыбаясь. — Прошу любить да жаловать. Я страшно извиняюсь за немного бестактное, так сказать… Это вторжение очень напоминает человека, который рыбу ест ножом. Впрочем, к чему эти светские условности, не так ли? Ах, сударыня… Все на свете проходит, и через сто лет, вероятно, никого уже из нас не будет на свете…
Тут же я пожалел, что не остановился на какой-нибудь определенной манере держать себя. Начал я «рубахой-парнем», продолжил «светским сдержанным аристократом», а кончил «меланхоликом».
— Ничего, милости просим, — сказала хозяйка. — Неужели вы, однако, такой пессимист, что думаете о смерти?
— Да, — вздохнул я. — Что такое, в сущности, жизнь? Какой-то постоялый двор. Все приходят, уходят. Стоит ли после этого мучиться, страдать…
Лицо хозяйки омрачилось. «Однако, — подумал я. Пригодна ли меланхоличность для светского вечера, где все должны веселиться?..»
Я надел на себя личину чудака, всеобщего любимца, «рубахи-парня». Прищелкнул пальцами и спросил:
— А где же хозяин сего богоспасаемого домишки?
— Он в карточной комнате.
— А-а, — подмигнул я. — Променял красивую женушку на картишки. Хе-хе. Ох, приударю я за вами — будет он тогда с выигрышем!
— С каким? — бледно улыбнулась хозяйка.
— Кому не везет в любви — везет в картах! А вы будто бы не понимаете? Ох эти женщины!
Я лукаво засмеялся. Лицо хозяйки дома казалось равнодушным. Она отвернулась и посмотрела на какого-то старика, топтавшегося в углу.
«Рубаха-парень» брал свое. Я кивнул головой на старика и сказал:
— Мы как будто во фруктовом саду.
— Почему?
— Да на одном из деревьев уже выросла синяя слива.
Я думал, что она расхохочется, так как нос старика действительно напоминал синюю сливу, но оказалось, что старик приходился ей отцом, и она обиделась.
Пришлось пустить в ход всю свою светскость, чтобы выпутаться из неловкого положения. Я пригласил на помощь «сдержанного аристократа» и сказал:
— Я извиняюсь за эту шутку. Старик мне, откровенно говоря, очень нравится. Кроме того, ведь не написано же у него на лбу, кто он такой.
— Ничего, — сказала хозяйка. — Бывает. Это легко случается, если человек приходит в дом, где он никого не знает.
— Разве он никого не знает? — удивился я.
— Кто?
— Ваш папаша.
— Я говорю не о папаше. Извините, я пойду распорядиться по хозяйству.
«Сдержанный аристократ» поклонился и… сейчас же уступил место «душе нараспашку».
— Господи! Такие прелестные ручки, созданные для ласк, должны хлопотать по хозяйству… Знаете что? Скажу вам откровенно: я познакомился с вами всего несколько минут, но чувствую себя, как будто знаком десять лет. Ей-богу! Так что вы со мной не стесняйтесь. Хотите, я пойду, помогу вам по хозяйству.
— Что вы! Мне ведь придется заглянуть на кухню…
— Заглянем вместе! Эхма! Ей-богу, нужно быть проще. Вы мною располагайте… Я могу все: ветчину нарезать, бутылки откупорить…
— Да нет, зачем же. Тем более что на кухню нужно проходить мимо детской, а дети спят…
— Как! У вас есть дети, и вы, плутовка этакая, молчите? Да ведь я обожаю детей. Они сразу подружатся с большим дядей. Я им сделаю разные кораблики, бумажные треуголки… Хе-хе! Я сейчас пойду к ним повозиться.
— Извините, но это неудобно. Они уже заснули. Вообще, я думаю, что управлюсь сама…
Она быстро повернулась и ушла. «Рубаха-парень» сжался и, превратившись в «меланхолика», обратился к группе дам, сидевших в углу около пальмы.
Я подошел к ним, опустился на стул и, свеся голову, вздохнул.
— Я вам не помешаю?
Дамы умолкли и взглянули на меня.
Я подпер подбородок рукой и задумался.
Все молчали.
Я провел рукой по волосам, будто отгоняя мучительные мысли, и прошептал:
— Как тяжело!
— Что… тяжело? — спросила участливо одна из дам.
— Это все… Этот блеск и шум… К чему он? В жизни человека на каждом шагу самообман!
Две дамы встали и сказали третьей:
— Пойдем, mesdаmes. Вы не видели новую картину в кабинете? Пойдем посмотрим.
Я остался с четвертой дамой. Чутье мое подсказывало, что я наделал ряд ложных шагов и поэтому являлась настоятельная необходимость загладить все это…
Выручить должен был «рубаха-парень», но с примесью старческих покровительственных ноток, свойственных пожилому бонвивану, общему любимцу.
— Прыгаете все? — спросил я равнодушно.
— Как… прыгаю?
— Еще не замужем?
— Нет, я девушка.
— А-а… Сердечко-то, наверно, ток-ток делает…
Я засмеялся добрым старческим смешком.
— Женишка вам найти надо. Хе-хе. Буду приходить детишек нянчить. Да вы не краснейте — мне ведь можно извинить…
— Я замуж не хочу.
— Ах вы, моя козочка! Она не хочет замуж!.. Видели вы такое? Небось, когда этакий, какой-нибудь черноусый паренек прижмет к себе покрепче да поцелует…
— Послушайте! Я не привыкла, чтобы мне так говорили…
— Хе-хе! Глазеночки, как мышонки, бегают. Ну да молчу, молчу. Я ведь, мои ангелок, приличия знаю и ничего такого не скажу и не сделаю. Пошутить могу, но уж, например, рыбу с ножа есть не буду!
Читатель, вероятно, заметил, что я уже несколько раз упоминал об этом неумолимом условии, предъявляемом хорошим тоном человеку из общества. Дело в том, что из всего сложного кодекса светских условностей я знал только одну эту условность и, признаться, берег ее до ужина про запас, — чтобы за ужином одним этим приемом исправить все предыдущие ложные и неправильные шаги.