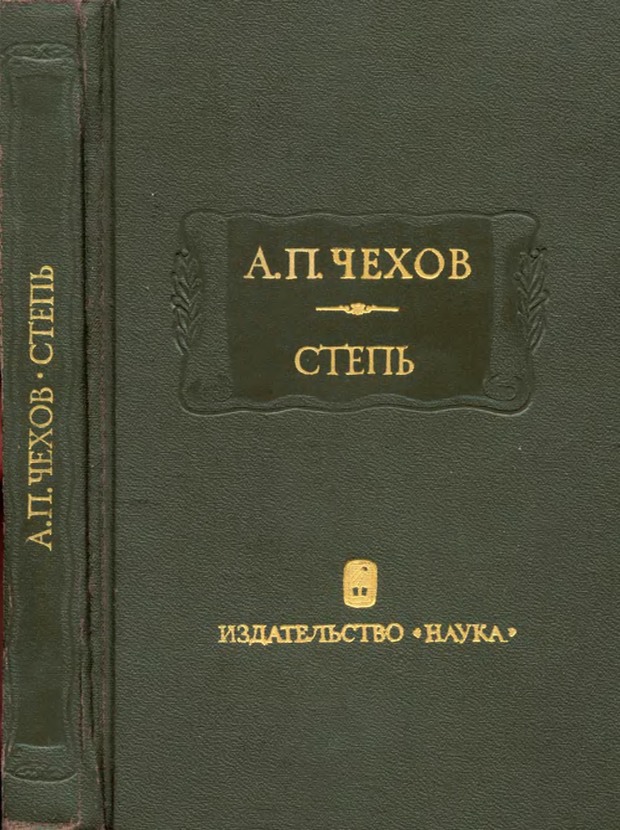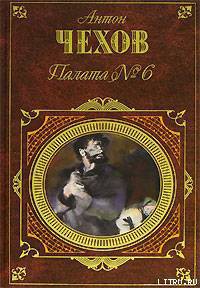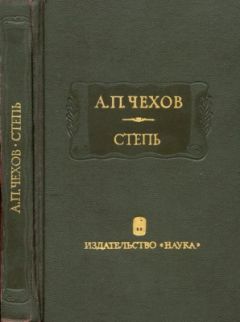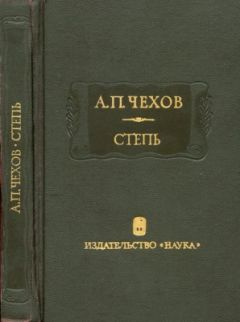другой, шёл вкусный запах кожи и дёгтя. Пол в лавке был полит; поливал его, вероятно, большой фантазёр и вольнодумец, потому что он весь был покрыт узорами и кабалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому великоросс. Он пил чай вприкуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенное равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: «Ужо погоди, задам я тебе!»
— Дай мне на копейку подсолнухов! — обратился к нему Егорушка.
Лавочник поднял брови, вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причём мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина:
— Почём эти пряники?
— Копейка пара.
Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил:
— А такие пряники у тебя почём?
Лавочник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь.
— Такие? — спросил он.
Потом поднял другую бровь, подумал и ответил:
— Три копейки пара…
Наступило молчание.
— Вы чьи? — спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника.
— Племянник Ивана Иваныча.
— Иваны Иванычи разные бывают, — вздохнул лавочник; он поглядел через Егорушкину голову на дверь, помолчал и спросил: — Чайку не желаете ли?
— Пожалуй… — согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утреннем чае.
Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить. Он хотел ещё спросить, сколько стоит фунт миндаля в сахаре, и только что завёл об этом речь, как вошёл покупатель, и хозяин, отставив в сторону свой стакан, занялся делом. Он повёл покупателя в ту половину, где пахло дёгтем, и долго о чём-то разговаривал с ним. Покупатель, человек, по-видимому, очень упрямый и себе на уме, всё время в знак несогласия мотал головой и пятился к двери. Лавочник убедил его в чём-то и начал сыпать ему овёс в большой мешок.
— Хиба це овёс? — сказал печально покупатель. — Це не овёс, а полова, курам на смих… Ни, пиду к Бондаренку!
Когда Егорушка вернулся к реке, на берегу дымил небольшой костёр. Это подводчики варили себе обед. В дыму стоял Стёпка и большой зазубренной ложкой мешал в котле. Несколько в стороне, с красными от дыма глазами, сидели Кирюха и Вася и чистили рыбу. Перед ними лежал покрытый илом и водорослями бредень, на котором блестела рыба и ползали раки.
Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском: «Тебе поём…» Дымов бродил около лошадей.
Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили всё в кипевшую воду.
— Класть сала? — спросил Стёпка, снимая ложкой пену.
— Зачем? Рыба свой сок пустит, — ответил Кирюха.
Перед тем, как снимать с огня котёл, Стёпка всыпал в воду три пригоршни пшена и ложку соли; в заключение он попробовал, почмокал губами, облизал ложку и самодовольно крякнул — это значило, что каша уже готова.
Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками.
— Вы! Дайте парнишке ложку! — строго заметил Пантелей. — Чай, небось, тоже есть хочет!
— Наша еда мужицкая!.. — вздохнул Кирюха.
— И мужицкая пойдёт во здравие, была бы охота.
Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь, а стоя у самого котла и глядя в него, как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, то и дело среди пшена попадалась рыбья чешуя; раков нельзя было зацепить ложкой, и обедавшие доставали их из котла прямо руками; особенно не стеснялся в этом отношении Вася, который мочил в каше не только руки, но и рукава. Но каша всё-таки показалась Егорушке очень вкусной и напоминала ему раковый суп, который дома в постные дни варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне и жевал хлеб.
— Дед, а ты чего не ешь? — спросил его Емельян.
— Не ем я раков… Ну их! — сказал старик и брезгливо отвернулся.
Пока ели, шёл общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своём прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка ещё не знал этого, и, прежде чем каша была съедена, он уж глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорблённые и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда ещё не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как всё было дёшево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, всё измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадями и берёт себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. [15] Дымов, сын зажиточного мужика, жил в своё удовольствие, гулял и не знал горя, но едва ему минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз как бобыля-работника. Один Стёпка молчал, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь.
Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он исподлобья оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушке.
— Ты, нехристь, сними шапку! — сказал