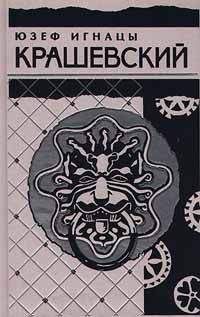следующее утро, шляхта, упоенная вчерашней своей победой, несколько отрезвела и стала обдумывать: "А что же дальше-то?"
Вчерашний триумф имел большое значение, но никто не был приготовлен к тому, чтобы вполне благоразумно использовать его. Между сенаторами и "народом", как звали тогда мелкую шляхту, был полнейший разлад, но аристократия, по крайней мере, знала, куда она идет и к какой цели стремится, а этот самый "народ" слепо и страстно шел наперекор.
Сошел со сцены Кондеуш и ненавистные французы, но некем было его заменить.
Те, что по идее ксендза Ольшевского хотели Пяста, не знали, кого же из них взять. Надо было бы искать одного из Пястов среди знати, но это им было противно, наметить же такого вояку в потертом жупане, как Поляновский, им самим казалось смешным, — что бы на это сказал остальной мир?
Лотарингский, правда, рыцарский государь, но все-таки он казался им таким же французом, как и Кондэ.
— Из огня да в полымя! Не кием, а палкой! — кричал Пиотровский. — Между ними только та разница, что на стороне Кондеуша стоит Франция, а Лотарингского поддерживают австрийцы.
На следующее утро на валах не видно было знати.
Пражмовский, уже оправившийся, но мстительный и коварный, а, вместе с тем и трусливый, кричал, бегая по комнате, среди придворных и приятелей:
— Нам не место там, где над головами звенят сабли! Как постлали, так пусть и спят! Мы там не нужны!
— Позвольте, ваша светлость, обратить ваше внимание на то, — пробормотал канцлер, — что до провозглашения короля, в случае вашего добровольного отсутствия, они для выборов короля найдут себе другого епископа, а ксендз подканцлер кстати всегда наготове!
Когда в трапезных у иезуитов, и у бернардинов в Варшаве происходили бурные совещания сенаторов о том, что предпринять, когда примас не хотел ехать на избирательное ноле, а другие также откладывали свои поездки, шляхта тоже ходила за валами хмурая, грозная, но озабоченная в не меньшей мере, чем и знать.
Они угрожали: "Сами себе выберем короля!" Но ни у кого не хватало смелости привести свою угрозу в исполнение.
— Подождемте! — возражали медлители, — их милости увидят, что нас больше и что без нас они не могут довести никакого дела до конца.
И потому ожидали, но из Варшавы никто не являлся, кроме высланных на разведки. Эти отвечали:
— Совещаются, упрекают друг друга, но запрягать лошадей, чтобы ехать сюда на валы, никто и не думает…
— Так их милости паны старшие братья хотят, значит, нас укоротить? — говорил Пиотровский, сидя на бочке из-под пива. — Только они должны были подумать, что мы-то сумеем себе выбрать на их место других, а они-то без той толпы, на которую они плюют, не сделают ни шагу. Завтра же у них не осталось бы ни одного придворного, если бы мы крикнули нашей молодежи: "Кто их слушает, тот предатель!"
Среди толпы, несколько остывшей после вчерашнего возбуждения, но которая снова начинала горячиться и возбуждаться, разгуливали, скрестив руки на груди, Гоженский, Корыцкий, Мочыдло, высланные примасом, Пацом и Собесским добывать языка, и прислушивались.
Гоженский первый, обежав все воеводства, понюхав кое-где, чем пахла вчерашняя "инсуррекция", сел верхом и поскакал в город к отцам иезуитам и к примасу.
Ехал он, бедняга, опустив голову, так как ему все это очень не нравилось, и случай был, как французы говорили, без прецедентов, то есть не имел себе подобных в истории.
— Вот к чему привели воинские дружины, — роптал Собесами, a примас добавлял:
— Могли, ведь, изрубить и гетмана… сумеют и епископа сделать мучеником.
Среди этих разговоров подъехал с докладом Гоженский, но у него нос так был опущен, что было даже лишнее спрашивать, с чем он приехал, — все можно было прочесть у него на лице.
— Ну, что? — спросил примас.
Гоженский пожал плечами:
— Говорят: обождем немного, а не захотят придти к нам, мы к ним не пойдем, обойдемся без примаса и гетмана…
Вельможи молча переглянулись.
— А опять-таки пугаться звона сабель не стоит, — прибавил Гоженский, обращаясь к примасу. — Много шума, а в действительности, все это только пустой галдеж: кричать легко, а поднять руку трудно!
Вельможи спрашивали друг друга молча, одними взглядами; примас медлил. Его не столько удерживала боязнь катастрофы, сколько сильное оскорбление самолюбия. Вчера он, Unter rex [101], примас, самое высокое духовное лицо в государстве, епископский трон которого раньше рисовался художниками наравне с королевским, и он должен был дрожать перед зипунами! Этого он им не мог простить. Вспоминая собственный страх, он бледнел от негодования и обиды.
Отомстить, хотя это чувство и не к лицу священнослужителю и епископу, отомстить — было его единственным всепоглощающим желанием.
В самом характере этого человека лежало разрешение этой задачи: как только Пражмовский успокоился бы и овладел бы собою, так он решил бы для виду покориться, унизить себя, а затем отплатить предательством и коварством.
Простить он не мог и не умел: в старце кипело еще слишком много испорченной крови.
Что-то теперь говорят во Франции о его торжественных ручательствах?! Что-то там думают теперь о его значении? Как там теперь могут высмеивать его или считать обманщиком!
Этого он также не мог простить…
В такой нерешительности прошел целый день, но к концу его с валов уже донеслось передаваемое из уст в уста решение шляхты: "Если де примас и другие подкупленные корифеи не приедут, обойдемся и без них! Ей Богу, без них!"
Примас опасался, что подканцлер готов и на это.
Когда уже поздно вечером несколько лиц из разных воеводств будто бы proprio motu [102], явились к примасу и стали советовать ему и просить его не уклоняться от явки, Пражмовский уже был подготовлен к этому.
Он выбрал позу опечаленного страдающего и растроганного человека, слезы выступили у него на глазах:
— Дети, мои, — обратился он растроганно к посланным, — я готов служить вам, отечеству и интересам Речи Посполитой до последнего издыхания. Сил у меня не хватило сегодня приехать. Меня угнетала невыразимая печаль. Я молился, чтобы Бог нам ниспослал отрезвление и мир.
Назначен был день для аудиенции Нейбургского. Распуганные было собрались снова. Шляхта стояла холодная, насмешливая, демонстративно терпеливая.
Нейбургский выступил так скромно и далее бедно, что из вереницы его экипажей, больше всего выделялись два возка, которые по служебной обязанности послал ему от себя в качестве гофмаршала Собесский, а свита Собесского и количеством и блеском значительно превосходила посольство, над которым открыто смеялись.
Сам посол, который должен был его