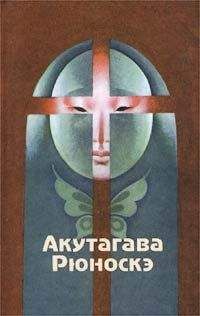"Я болен. Да, я болен. Я очень, очень болен". - он постоянно говорил, твердил это про себя. Иногда даже шевелил губами при этом. Констатировал и констатировал то, что было неоспоримо.
На военной кафедре с ним приключилась истерика. В тот раз он был "дневальным". Майор объяснял ему, что надо сейчас делать, и он вдруг рассмеялся ему в лицо. Майор оторопел от такой наглости, попытался было поставить его на место, но как-то вдруг понял, что тут что-то не так, и, не обращая внимания на неприличный смех, продолжал объяснять. Он с утроенным усердием кивал, чтобы майор понял, что это он, ей-богу, не нарочно, но смех рвался и рвался из него, и он был тут совершенно бессилен. Смеясь, отправился выполнять поручение. Майор некоторое время смотрел ему вслед. Потом покачал головой.
Все шло по-прежнему. Он учился на четвертом курсе, ходил в университет. Родители ничего не замечали. Иногда он, правда, устраивал небольшие, кратковременные скандальчики, с оттенком какой-то новой для него слезливости, из-за любой бытовой ерунды. Но и раньше у него был характер "не из легких". А он потом раскаивался, корил себя. И даже удивлялся: с чего это он вдруг?
У него стали побаливать уши. Если их продувало, болели сильнее. И какая-то гадость завелась в них, какая-то жирноватая субстанция, с резким, противным, каким-то прогорклым запахом. Его почему-то все тянуло ногтями добывать ее из ушей и принюхиваться, ощущать мерзостность. Вошло в привычку. Мог заниматься этим и на людях. Как-то он их стал плохо замечать. Впрочем, спохватывался; уже, правда, успев вкусить мерзостности.
Как ты похудел! - изумлялась приехавшая тетушка. И мать тоже вздыхала. Все из родни замечали, что он похудел.
А его бесили эти напоминания. Потому что это были напоминания, лишние напоминания о том, что с ним происходит.
"Я не гений, вы говорите?!! Хорошо, а если бы изобрели такой прибор: подключить вас к нему, и теперь вы - я. И оставить вас так, хотя бы на сутки. Да от вас бы кучка пепла осталась! Что такое быть мной, вы не знаете! Вы бы хоть день прожили мной!"
"У художника есть этот самый... холст, у музыканта - пианино или чего там, а у моего гения - ни хе-ра. И ничего не поделаешь. И никакого такого прибора нет".
"Забавно: скажем, Бетховен - ведь это же душа Бетховена. А ему нужны годы учения, всякая музыкальная грамота, инструменты. Вся эта тряхомудия. И только тогда мы все постигаем - да, это - Бетховен. А если бы он родился среди чукчей?"
"А если бы он был глухим от рождения?"
"От этого он бы не перестал быть Бетховеном. Но никто бы никогда об этом не узнал".
"А если и не глухой, просто в каких-нибудь нейронах что-то чуть-чуть сдвинуто, чуть-чуть-чуть повернуто. И если бы обратно повернуть - совсем чуть-чуть, - то все в порядке - ты музыкант, художник, писатель. Но никто не повернул. И некому. И теперь ты почти музыкант. Теперь ты почти художник. Но почти - не считается. Почти - не видно. Если это где-то и видно, так это в каких-то нейронных джунглях. И то - самому всевышнему".
"У моего гения нет рук. Обратная связь отсутствует. Внутрь - есть, наружу - нет".
"И дело тут не в моем чудовищном, патологическом тщеславии, как я раньше думал. Суррогат бессмертия? И об этом думал - нет! И бывший вундеркинд ни при чем. И не фраеру указали на то, что он фраер. А гений понял, что он безрукий, безногий и немой. И гений этого гения погребен в нем заживо. Навсегда".
"Про какой гений я говорю? Я не знаю. Я только чувствую ЭТО в себе. Какой-то огонь, какое-то пламя. Пожирающее. Раздирающее меня".
"Но вы требуете доказательств. И вы совершенно правы, что их требуете. Что ж, у меня их нет".
"Но я чувствую, чувствую этот огонь, раздирающий меня!! Терзающий меня!! Что мне делать с ним?!!"
"Ну ей-богу, гений я, братцы, я ничего не могу с этим поделать!"
Февраль все не кончался.
"Ладно, остынь. У тебя-то для себя самого есть доказательства, что ты гений? Сам-то ты веришь в это?"
"Я? Да нет... Конечно, нет! И для себя самого у меня нет доказательств. Но иногда я просто уверен в этом. С самого детства. И я чувствую, что меня это не покинет. Я могу на время про это забыть, но рано или поздно оно всплывет. И когда всплывет, мне не нужны будут доказательства. Есть доказательства, нет доказательств, мне это будет просто неинтересно, и все; я и без всяких доказательств буду знать, что я гений. Просто знать, и все".
"Наверно, дело все же в другом. Это же самое испытывают очень многие. Дело вот в чем: ты очень ценишь уникальность, неповторимость твоего "я". Теперь ты убедился, что оно не уникально. Но не хочешь с этим примириться. И за гений ты просто принял чувство собственного "я": Я иду, Я вижу, Я слышу, Я думаю, Я чувствую. Как же - Я! Для таких, как ты - это все! Видел ты, говоришь, что-то, что-то самое главное? Да ни хрена ты не видел".
"Что ж, это бывает. Не только с тобой одним. Но примириться придется. Как тысячам и миллионам людей, которые живут сейчас вместе с тобой и которые жили до тебя".
"Не знаю, как другие. Не знаю".
"НО Я С ЭТИМ НИКОГДА НЕ СМИРЮСЬ!"
"Ну, вот-вот. Так бы сразу и говорил. Не смирюсь - и точка. И нечего сюда еще примешивать какой-то гений. Он здесь ни при чем".
"Какой гений, какой огонь - брось, слушай. Это громкие слова, сотрясание воздуха. Пока ты чего-то не сделал для других людей - все эти разговоры насчет гения - ерунда. Только сделав что-то для других, ты можешь доказать наличие у себя гения. Впрочем, можешь утешаться тем, что, пока ты ничего не сделал, и опровергнуть наличие у тебя гения тоже нельзя. Можешь утешаться этим, если тебя это утешает. Что действительно есть, так это то, что ты, непонятно с чего, считаешь свои переживания очень ценными. Но они ценны только для тебя. И только тем, что они - твои".
"Но я чувствую, что они и ДЛЯ ДРУГИХ ценны, вот в чем дело! Я чувствую это!"
"А почему ты так чувствуешь?"
"Не знаю... Чувствую..."
"Любой дурак так может сказать".
"Знаю, что любой дурак! Знаю, что никто не обязан мне верить! Но я чувствую, и все! Что я могу с этим поделать?!"
"Параноик".
"И еще: мне наплевать на уникальность моего "я". Любое "я" неповторимо. Но мое "я" - ценно, ЦЕННО - понимаешь?! ЦЕННО ДЛЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. Как ценно "я" Толстого, Достоевского или, там, Бетховена. Не их случайное ремесло, а САМИ они. Их ДУША, черт побери! Их какое-то внутреннее, самое главное. Оно никому неведомо, но оно-то и есть самое главное".
Он вошел в вагон метро, в своей шапке с опущенными ушами - чтоб уши не мерзли, хотя давно уже температура была повыше нуля, было слякотно, все капало; в потрепанной куртке, в стоптанных башмаках. Мать давно упрашивала его купить новые, но ему лень было ехать, примерять, и он все откладывал, все обещал. С ним вместе вошел некто, с палкой, в шапке еще более дурацкой, чем у него, - ей было, такое чувство, лет тридцать, как из документальных съемок. Он остался стоять у входа, а тот, в шапке, продолжал идти, опираясь на свою палку. Потом вдруг: "Сесть. Дайте мне сесть", - очень громко и очень безапелляционно. Недоуменный ропот, общее оглядывание в сторону этого голоса. "Сесть мне дайте, говорю!!!" Не так чтобы замахнулся, но резко оторвал палку от пола. Он видел его со спины. Еще немного, и тот уже сидел, кто-то таки уступил ему место. Две девицы, оказавшиеся с ним рядом, мигом упорхнули. Все поняли, что имеют дело с сумасшедшим. "Надоели!!" - вдруг опять выкрикнул он, уже сидящий. И еще раз: "Надоели!!!" - с каким-то уже последним остервенением, и яростно грохнул палкой о пол. Все молчали. Ехали дальше. Сумасшедший тоже молчал. Он мельком взглянул на него. Бескровное лицо с синеватым оттенком, какое-то костяное, широко раскрытые глаза, как будто бы все время горящие, только сейчас они были, наверно, ненадолго притушены. Сумасшедший смотрел в одну точку, его палка покоилась. Он вдруг подошел и сел рядом с сумасшедшим, после девиц рядом с ним никто не садился. Он ехал рядом с ним, ковыряясь в своих смердящих ушах, и чувствовал какую-то горькую приятность. Что-то вроде солидарности испытывал он с тем, с его осатанелостью, она даже как будто передалась ему. Никто с этим сумасшедшим рядом не сел, а он вот сел.
Он вышел из вагона и пошел по направлению к эскалатору. Идти было долго. Он шел и незаметно для себя победоносно чеканил шаг. Он видел себя со стороны, видел, какой он весь потрепанный, обшарпанный, с нелепо висящими ушами. И ему это нравилось. Вдруг, обдав чувством победы, торжества, триумфа, вспыхнули строчки: "Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его!" А про кого это было сказано? То-то! Он шел и шел навстречу эскалатору.
"А как, интересно, выглядел Джаггернаут? Броситься под него, завопить не своим голосом, теряя рассудок, ощутить напоследок, как хрустнул у тебя позвоночник, как давятся, лопаются потроха. Красивое имя. Прекрасная смерть".
"Герцог без угодий. Разве это смешно? Зачем ему угодья? Он и так герцог".
...над лесом взошла медная луна и протрубила его героическую смерть...
- А черкесы, так те вообще финиш! Мы ему хлебало уже все разнесли, а он, сука, все лезет и лезет! И ногами пинали, и че, блин, только не делали! Нет, гад, встает и опять. Дурак какой-то, в натуре!