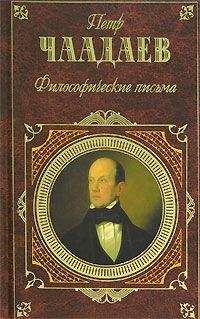Вы понимаете, что я не могу вывести известную вам милую даму на ту шутовскую арену, на которой мы благодаря вам состязаемся. Я не могу говорить с вами ни о том почти жестоком поддразнивании, которому вы ее подвергли, и это в такую минуту, когда она была погружена в глубочайшую скорбь[124], ни о ваших претензиях целиком завладеть ее дружбой, ни, наконец, о покорности, с которой она перенесла все излияния неслыханного эгоизма; но я могу и должен сказать вам о себе, и это вы, конечно, прекрасно понимаете. Как ни смешно, впрочем, что между нами возникает спор, я не могу даровать вам ту безнаказанность в отзывах обо мне, какую вы себе так свободно предоставляете. Итак, слушая вас, лучше сказать, глядя на вас, ибо вы ничего не произносите[125], можно подумать, что вы таите глубокую и обоснованную обиду против меня; я оговорился, обида – не то слово, ваше дурное настроение в отношении меня совершенно бескорыстно, вы одушевлены лишь самым целомудренным, самым благородным негодованием против изменчивости моих мнений, против моего заносчивого самолюбия. Ну, так что ж! Я это признаю, ибо я – не из тех, кто добровольно застывает на одной идее, кто подводит все – историю, философию, религию под свою теорию, я неоднократно менял свою точку зрения на многое и уверяю вас, что буду менять ее всякий раз, когда увижу свою ошибку. Что касается второго вопроса – моего самолюбия, то – да, я горжусь тем, что сохранил всю независимость своего ума и характера в том трудном положении, которое было создано для меня, и я смею надеяться, что мое отечество оценит это; я горжусь тем, что вызванные мною ожесточенные споры не отдалили от меня никого из тех лиц, глубокими симпатиями которых я пользовался, наконец, я горжусь тем, что среди моих друзей числятся серьезные и искренние умы самых различных направлений. Еще слово. О, конечно, христианское смирение прекрасно, и, осуществляя его, человек испытывает невыразимое счастье; к сожалению, при некоторых данных условиях оно приобретает вид низости, и вы, который так искусно умеет принимать тот или иной вид, должны это знать не хуже меня. Вернемся к моим мнениям – это самый существенный вопрос.
Было время, когда я, как и многие другие, будучи недоволен нынешним положением вещей в стране, думал, что тот великий катаклизм, который мы именуем Петром Великим, отодвинул нас назад, вместо того чтобы подвигнуть вперед; что поэтому нам нужно возвратиться вспять и сызнова начать свой путь, дабы дойти до каких бы то ни было крупных результатов в интеллектуальной области. Ознакомившись с делом ближе, я изменил свою точку зрения. Теперь я уже не думаю, что Петр Великий произвел над своей страной насилие, что он в один прекрасный день похитил у нее национальное начало, заменив его началом западноевропейским, что, брошенные в пространство этой исполинской рукой, мы попали на ложный путь, как светило, затерявшееся в чужой солнечной системе, и что нам нужен в настоящую минуту какой-то новый толчок центростремительной силы, чтобы мы могли вернуться в нашу естественную среду. Конечно, один этот человек заключал в себе целый революционный переворот, и я далек от того, чтобы это отрицать, однако и этот переворот, как и все перевороты в мире, вытекал из данного порядка вещей. Петр Великий был лишь мощным выразителем своей страны и своей эпохи. Поневоле осведомленная о движении человечества, Россия давно признала превосходство над собой европейских стран, особенно в отношении военном; утомленная старой обрядностью, прискучив одиночеством, она только о том и мечтала, чтобы войти в великую семью христианских народов; идея человека уже проникла во все поры ее существа и боролась в ней не без успеха с заржавевшей идеей почвы. Словом, в ту минуту, когда вступил на престол великий человек, призванный преобразовать Россию, страна не имела ничего против этого преобразования: ему пришлось только приложить вес своей сильной воли, и чашка весов склонилась в пользу преобразования. Что касается средств, которыми он пользовался для осуществления своей программы, то он, естественно, нашел их в инстинктах, в быте и, так сказать, в самой философии народа, которого он являлся самым подлинным и в то же время самым чудесным выразителем. И народ не отказался от него: если он и протестовал, то делал это в глубоком безмолвии, и история никогда об этом ничего не узнала. Стрельцы, опьяненные анархией, вельможи, погрязающие в грабежах, потерявшие рассудок среди своего рабского уклада, несколько мятежных священников, тупые сектанты – все это не выражало национального чувства. Наконец – небольшая оппозиция, оказанная ему частью народа, отнюдь не имела отношения к его реформам, ибо она возникла со дня его восшествия на престол. Я слишком хороший русский, я слишком высокого мнения о своем народе, чтобы думать, что дело Петра увенчалось бы успехом, если бы он встретил серьезное сопротивление своей страны. Я хорошо знаю, что вам скажут некоторые последователи новой национальной школы – «потерянные дети» этого учения, которое является ловкой подделкой великой исторической школы Европы; они скажут, что Россия, поддавшись толчку, сообщенному ей Петром Великим, на момент отказалась от своей народности, но затем вновь обрела ее каким-то способом, неведомым остальному человечеству, но краткое размышление покажет нам, что это – лишь громкая фраза, неуместно заимствованная на той податливой растяжимой философии, которая в настоящее время разъедает Германию и которая считает, что объяснила все, если сформулировала какой-нибудь тезис на своем странном жаргоне. Правда в том, что Россия отдала в руки Петра Великого свои предрассудки, свою дикую спесь, некоторые остатки свободы, ни к чему ей не нужные, и ничего больше – по той простой причине, что никогда народ не может всецело отречься от самого себя, особенно ради странного удовольствия сделать с новой энергией прыжок в свое прошлое – странная эволюция, которую разум человека не может постичь, а его природа – осуществить. Но надо знать, что не впервые русский народ воспользовался этим правом отречения, которое, разумеется, имеет всякий народ и пользоваться которым не каждый народ любит. Так часто, как мы. Заметьте, что с моей стороны это – вовсе не упрек по адресу моего народа, конечно достаточно великого, достаточно сильного, достаточно могущественного, чтобы безнаказанно позволить себе время от времени роскошь смирения. Эта склонность к отречению – прежде всего плод известного склада ума, свойственного славянской расе, усиленного затем аскетическим характером наших верований, – есть факт необходимый или, как принято теперь у нас говорить, факт органический, – надо его принять, подобно тому как страна по очереди принимала различные формы иноземного или национального ига, тяготевшие над ней. Отрицать эту существенную черту национального характера – значит оказать плохую услугу той самой народности, которую мы теперь так настойчиво восстанавливаем. Вот некоторые из тех отречений, о которых мы говорим.
Наша история начинается прежде всего странным зрелищем призыва чуждой расы к управлению страной, призыва самими гражданами страны – факт единственный в летописи всего мира, по признанию самого Карамзина, и который был бы совершенно необъясним, если бы вся наша история не служила ему, так сказать, комментарием. Далее идет наше обращение в христианство. Вы знаете, как это произошло. Если князь и его дружина, говорил народ, находят это учение хорошим и мудрым, наверное, это так и есть, и бежал окунуться в воды Днепра. Наконец, наступает продолжительное владычество татар – это величайшей важности событие, которое ложный патриотизм лицемерно и упорно отказывается понять и которое содержит в себе такой страшный урок. Как известно, татары никогда не захватывали всей России, но ведь без захвата страны нет настоящего ее завоевания, т. е. завоевания, которое привело бы к необходимому подчинению. Можно подумать, что смутный инстинкт подсказал нашим предкам, что, уединяясь от остального мира, они согрешили перед господом и что бич татарского нашествия был за это справедливой карой: такова была покорность, с которой они приняли это страшное иго. Поэтому, как оно ни было ужасно, оно принесло нам больше пользы, чем вреда. Вместо того чтобы разрушать народность, оно только помогало ей развиться и созреть. Именно татарское иго приучило нас ко всем возможным формам повиновения, оно сделало возможным и знаменитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, царствования, во время которых упрочилось наше могущество и завершилось наше политическое воспитание, во время которых с таким блеском проявились благочестивые добродетели наших предков; то же владычество облегчило задачу Петра Великого и имело, быть может, больше влияния, чем это принято думать, на образование характера этого исполина. Само царствование Иоанна IV можно рассматривать в известном смысле как длительное отречение, во время которого народ сложил у ног своего государя не только все свои права, но и свои верования, ибо мы видим, как немедленно после него народ признает наследником престола его сына – плод многоженства, не имевшего примера среди христианских народов, видим, как он проливает чистую кровь лучших своих сынов за этот воображаемый символ царской власти. Всем известно это странное и волнующее событие страшного царствования – настоящий договор, заключенный между народом и его государем, в силу которого народ со связанными руками и ногами отдавал себя во власть впавшего в безумие государя. Один этот факт говорит больше, чем все, что я мог бы прибавить. Но в нашей истории есть еще одно отречение, более важное, более чреватое последствиями, чем все отречения, о которых я говорил, и к которому не терпится перейти, потому что оно непосредственно связано с упреками, которые вы мне делаете. Вы догадываетесь, что я имею в виду установление крепостного права в наших деревнях.