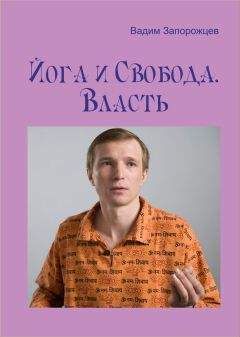Пока управляющий готовил автомобиль, я еще раз обошел комнаты, еще раз выдвинул пустые ящики, как бы для того, чтобы убедиться, что они действительно пусты и что никто другой никогда в них ничего не найдет. Мне казалось, что так я выполняю волю покойного. Остановившись на минуту перед портретом дамы в большой шляпе я постарался понять ее выражение. Косой утренний свет менял ее улыбку: вчера она мне казалась несмелой и печальной; нынче я различал в складке губ зарождающееся удивление. Точно бы она говорила: так в жизни не бывает, так в жизни быть не может, так бывает только в сказках. Я чуть что на себя не рассердился и приписал эту преувеличенную впечатлительность резкой перемене темпа жизни. Мои нервы, перегруженные непрерывными заботами и постоянным усилием, которого требовал город, отказались без протеста подчиниться спокойствию.
Раздался шум мотора, я распрощался с женой управляющего, занял место в автомобильчике и мы тронулись. Подъем между скалами, пустынное плоскогорье, виноградники... Я начинал ускользать от охватившей меня странной мечтательности и рассчитывал в каре, и потом в поезде, совсем с ней справиться, настолько, чтобы осталось лишь нежелание скоро в эти места возвратиться. Но порча мотора и те сорок минут, которые понадобились управляющему, чтобы что-то промыть и подвинтить, привели к тому, что я опоздал к автокару и, так или иначе, мне приходилось дожидаться вечернего и дальше ехать с ночным поездом.
Управляющий предложил было вернуться в усадьбу, но я это предложение отклонил, предпочтя провести несколько часов в деревне, позавтракать в ресторане, развлечь мысли прогулкой и чтением газет. Была там большая базарная площадь, магазины сельскохозяйственных продуктов, машин и орудий. Обычная главная улица, с единственной гостиницей, лавки, многочисленные, для скромной цифры населения, кафе, кузница, строительные склады, почтовая контора, аптека - словом все, что полагается для удовлетворения деревенских нужд. И была, от всего этого несколько отдельная, старая, за столетия не изменившаяся, желтоватого известняка, высушенная ветром и солнцем, омытая дождями, большая церковь. Противоречию между ее сокровенным смыслом и поверхностной значительностью всего, что ее окружало, бросалось в глаза, даже такому безразличному к религии человеку, {68} каким был я. Я остановился перед ней и долго ее рассматривал, рассчитывая потом войти внутрь: точно что-то поманило отдохнуть в ее тишине.
Пока я так стоял, в раздумьи, отыскивая в памяти и оживляя детские и юношеские, окрашенные благоговением воспоминания, боковая дверь открылась и вышел старенький священник, которого сопровождала тоже старая, одетая во все черное, женщина. Так как я был в полутора от них метрах, то я и счел нужным поклониться, на что священник ответил приветливой улыбкой. Тронутый светившейся в его глазах добротой, я назвался и пояснил, что я проезжий, и что красота старинной церкви меня поразила; и сказал еще, что я счастлив засвидетельствовать почтение ее хранителю.
- Так как Хозяин ее, - прибавил я, - не Сам ли Господь?
И тотчас старый священник, подумав, вероятно, что я глубоко верующий и преданный церкви человек, осведомился о том, на сколько я тут времени и, узнав, что я всего жду вечернего автокара, предложил войти в его домик отдохнуть за беседой и выпить, если я пожелаю, прохладительный напиток, который так прекрасно умеет приготовлять его сестра, - и он представил меня сопровождавшей его старушке.
Так и вышло, что я оказался гостем старого священника и смог ему рассказать, почему я приехал в эти места и поделиться отчасти впечатлением, которое на меня произвело имение. Имение это священник знал довольно хорошо и легкая тень омрачила его черты, когда я поведал ему о кончине старого владельца.
- С ним, - сказал он, - меня связывали давнишние воспоминания. Мы вместе отбывали воинскую повинность. Но это было так давно! То, что ему довелось пережить после конца службы, положило на него неизгладимую печать.
Несколько мгновений он задумчиво помолчал, точно взвешивая за и против, точно опасаясь, продолжив рассказ, позволить печали занять слишком много места. Потом, найдя внутри себя разрешение продолжать, добавил:
- Я знал Маргариту, его невесту. У нее была очень слабая грудь. Знал он, или не знал, что морской климат может быть очень опасным для легочных, - судить не берусь. Но только привез он ее сюда, думая, что окруженная всеми возможными заботами, она окрепнет. Может быть он хотел ее потом отправить в горы? Или поместить в санаторию? И до этого считал за нужное показать ей места, в которых мечтал с ней жить? Так или иначе, она скоропостижно скончалась от кровотечения; все так внезапно случилось, что он словно не совсем понял в чем дело, или придал всему свое собственное, мистическое толкование. Он так горевал, что можно было опасаться за его рассудок. Он повторял, что его невестой стала сама смерть, и что он с ней и будет жить, и когда умрет, то это и будет его браком. Он себя чуть ли не упрекал в убийстве. Так он с этим горем никогда не справился {69} и когда приезжал сюда, то, до того, как ехать в имение, проводил на кладбище у ее могилы чуть ли не целый день. Он никогда никого к себе не приглашал, и раз как-то мне сказал, что так горевать, одному, от всех запершись, ему в утешение ! Раз, когда я к нему все же завернул, он провел меня по комнатам, и говорил: "Видите, она тут, она тут живет! Вы только тело ее схоронили, а душу оставили дома, мне душу ее оставили. Здесь, я ее желанный гость! А в столице, чтобы не горевать, я себе ни минуты свободной не оставляю и настоящую жизнь загромождаю делами и суетой, иначе не справился бы с собой. Я в горы, - говорил он, - должен был ее увезти, и там вылечить и потом только, здоровой, показать этот дом. А вышло, что не ее он стал домом, а домом ее души. Теперь мне только надо ждать, чтобы ее настигнуть...".
Я молчал. Что, в самом деле, мог бы я ответить, и о чем спросить старого священника?
- И еще он мне сказал, - продолжил тот, - что времени, когда оно, как его время в столице, целиком заполнено, - нет. А что тут его столько, что оно похоже на вечность, и что он у портрета Маргариты с ней встречается словно забегая вперед, в вечную жизнь.
Потом старичок осведомился о моих намерениях: собираюсь ли я часто приезжать и подолгу оставаться? Я пояснил, что у меня в столице много дела и что на поездки выкраивать время будет трудно; и он заметил, что разумеется само собой, что такого повода, как у покойного, оставаться тут подолгу у меня быть не может.
Расспросил о последних месяцах его жизни.
- Это был очень хороший человек, Царство ему Небесное, - прибавил он. - Впервые я его оценил, когда мы были товарищами по полку. Bсе его любили, за прямоту, за доброту, за мягкость, за исходившее от него расположение к людям. Потом мы остались в постоянной связи, и это я ему подыскал имение. Он отремонтировал дом, купил обстановку... Я сам уроженец здешних мест. Я тут был настоятелем, позже меня переводили в другие приходы, а под старость вновь сюда назначили, на покой.
Мы еще поговорили о погоде, об урожаях, о деревенских делах. Он, с огорчением, мне поведал, что благочестие населения оставляет желать очень многого. Он сослался на времена.
- Они теперь такие, - пояснил он, - что вера становится исключением. Но времена меняются, и мы с ними!
Мы распрощались с сердечностью, и я пошел позавтракать, а после завтрака побродил по местному кладбищу.
Покачивались над моей головой ветви развесистых сосен, дрожала между памятниками серая трава, темнели тут и там кипарисы. Я искал могилу Маргариты. И в то же время я опасался ее найти, говоря себе, что может быть лучше так и остаться под впечатавшем, что она продолжает жить в запертых комнатах старого дома, на утесе, у моря? И когда наткнулся на совсем скромную могилку, с совсем {70} скромной надписью на небольшом, белого мрамора кресте, то мне точно стало бы ясно, что я, а не кто-то другой, назначен хранителем легенды. Какое, в самом деле, для других могло иметь значение, что на кресте было имя, были день, год рождения, а дня и года смерти не было?
17.
Я отсутствовал всего два дня, но оказалось, что и этого было достаточно, чтобы накопились разные обстоятельства. Мари я застал в слезах. Она говорила, что рада меня видеть, улыбалась, но слез сдержать не могла. Не понимая в чем дело я старался ее утешить, рассказывая подробно о поездке, говоря, что сначала владение мне понравилось, но что позже я решил, что оно не подходит и думаю его продать. Мари слушала рассеянно, о чем-то другом помышляя. Когда же я стал настаивать, спрашивая, что с ней, она созналась, что у нее был Аллот. В комнаты свои она его не пустила, но в гостиной он пробыл почти два часа, подробно все выпытывая обо мне, о том, что я делал раньше, кем был, кем стал, о наших планах и о том, как далеко зашли наши отношения. Она пробовала от него избавиться, ссылаясь на то, что она моя невеста и что ей ни в чем перед ним отчитываться не надо, говоря, что она совершеннолетняя, что он ей всего отчим, а не отец. Все было напрасно. Он ушел только тогда, когда сам счел, что пора уходить. Рассказ Мари побудил меня предположить, что у Аллота есть в руках какой-то секретный козырь, или что он располагает некоторой над ней властью. Своего он добился: она передала ему, как мы оказались у изголовья умирающего, что мы сняли квартиру, что собираемся в заграничное свадебное путешествие. То сквозь слезы, то ласкаясь, то снова начиная плакать, она точно бы мне в какой-то неверности признавалась и просила ее простить. Под конец разговора с ней случилось что-то вроде истерики.