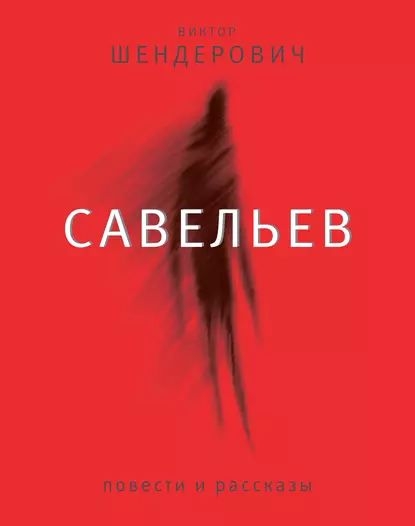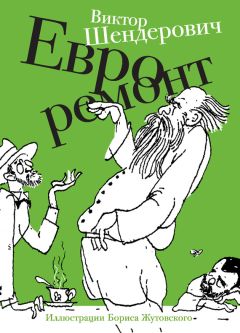Она пошла на работу, но с обеда снова сорвалась в больницу.
На третий день ей удалось уговорить врача, и ее пустили в реанимацию. То, что она увидела, подкосило ее. Это было тело с обезображенным лицом, со свистом дышащее через катетеры. И это был Савельев.
Через два дня она увидела его фамилию на афише у Дома литераторов и несколько минут стояла перед ней в темном облаке собственных мыслей, а потом пришла в указанный день — с расчетливым опозданием, невидимой…
Пошлый двойник Савельева читал его стихи и отвечал на вопросы. Он был очень хорошо подготовлен, этот двойник, но обмануть ее было невозможно: на сцене стоял другой человек!
Он читал с эстрадной подачей, а ей ли было не помнить, как дрожал на взлете голос настоящего Савельева, юноши-бога со смертной тоской в глазах… Этот, поднаторевший в успехе, был обласкан жизнью, и на лице матово мерцала привычка к популярности. С языка слетали бойкие ответы на все вопросы мироздания…
Но самое ужасное, отчего потемнело в глазах у Тани Мельцер, невидимо стоявшей в дверях за шторой: на выступавшем был вельветовый пиджак. Тот самый.
Она вышла вон и осторожно побрела по Большой Никитской: ноги подкашивались безо всякого гололеда… Она не видела, как двойник вдруг изменился в лице, потерял мысль и еле выпутался из фразы. На автопилоте договорив репертуар, человек в вельветовом пиджаке сбежал вон прямо со сцены — кружным путем, через ресторан, на Поварскую…
Он увидел в партере девушку из пансионата.
Сероглазка была уверена, что вечер отменят, и пришла в Дом литераторов, чтобы узнать у кого-нибудь телефон своего рыцаря. Она помнила месиво, в которое бандиты превратили это лицо несколько дней назад, и, онемев, смотрела на целехонького Савельева, а потом пошла за кулисы, но рыцаря как корова языком слизала…
Наутро в больнице Таню Мельцер дежурно опросил унылый мент. Более всего мента беспокоило, не собирается ли кто-нибудь подавать заявление по поводу произошедшего. Узнав, что нет, служивый заметно повеселел и даже поблагодарил Таню за понимание: смысла, сказал, все равно нет, а нас… это… Он замялся и, не доглаголив, умолк.
Главврач позвал Таню поговорить о дальнейшем. Больного надо скоро выписывать; они сделали все, что могли, а мест нет совсем. Он так понял, что она невеста, а близких родственников у пострадавшего нет: она готова забрать его под подписку?
Таня похолодела, вспомнив, что у Савельева есть мать — кажется, в Воронеже, — и она ничего не знает. Надо было найти ее, сказать что-то… Но что?
Всю последнюю неделю Таня Мельцер пыталась жить в энергосберегающем режиме, но пробки вылетали все равно. У нее не было сил думать еще и об этом.
И она сказала: да.
Всего неделю назад она сидела в кафе напротив человека, которого еще девочкой назначила своей судьбой. Судьбы не получилось, и, повзрослев, она решила красиво закрыть эту страницу. Но зачем-то оставила ему свой телефон на клочке бумаги…
Сама не понимала зачем.
Теперь — поняла.
Кто-то приходил в его палату каждую ночь — и вел смотреть на настоящего Савельева. Там всегда был день, и всякий раз хороший день, то солнечный, то не очень, но всегда желанный.
Больной узнавал эти пейзажи: бульвары, улицы, дома… — и у него сладко щемило сердце. Он, несомненно, бывал здесь, вот здесь и вот здесь тоже! А вот — боже мой! — какое-то совсем родное место, где когда-то случилось что-то нежное…
Он знал, что вспомнит это, непременно вспомнит, потому что память расширялась и в голове уже начали появляться слова. Они складывались воедино — сами, и он испытывал от этого мучительное наслаждение, как будто когда-то умел делать это очень хорошо, а потом разучился…
Он наблюдал за местом, где обронил свою жизнь, он заполнял себя пространством своей памяти, а жил вместо него — Савельев. Тот, настоящий. Здоровый, вальяжный и знаменитый. Спрятавшийся в ту ночь в номере подмосковного пансионата. Этот уцелевший Савельев по-хозяйски брал куски его жизни — то на московских улицах, то среди каких-то дач и яхт; он сидел в кафе и давал интервью, он раздевал женщин и что-то делал с ними.
И лишь иногда этот победительный человек вставал сусликом посреди улицы и с тревогой смотрел наверх, будто догадывался о чем-то.
Однажды больной почувствовал на себе пристальный встречный взгляд и проснулся, застигнутый с поличным, в своей палате, под ночником…
На следующую ночь незнакомец не повел его никуда, сказав: надо переждать. Он чувствует, что ты следишь за ним. Будь осторожен.
Больной сказал: но если он меня видит, значит, я все-таки есть? Есть — на самом деле? Ночной человек ничего не ответил. И тогда больной решил рассказать все Тане.
Его рассказ сделал с ней ужасное: Таня завыла, закусив себе ладонь. Она выла — и смотрела такими глазами, что он очень разволновался. И тогда она прижала его к себе, говоря:
— О господи, о господи…
И тогда он спросил:
— Я — настоящий?
И она ответила два раза, хотя он хорошо ее слышал.
— Да! Да!