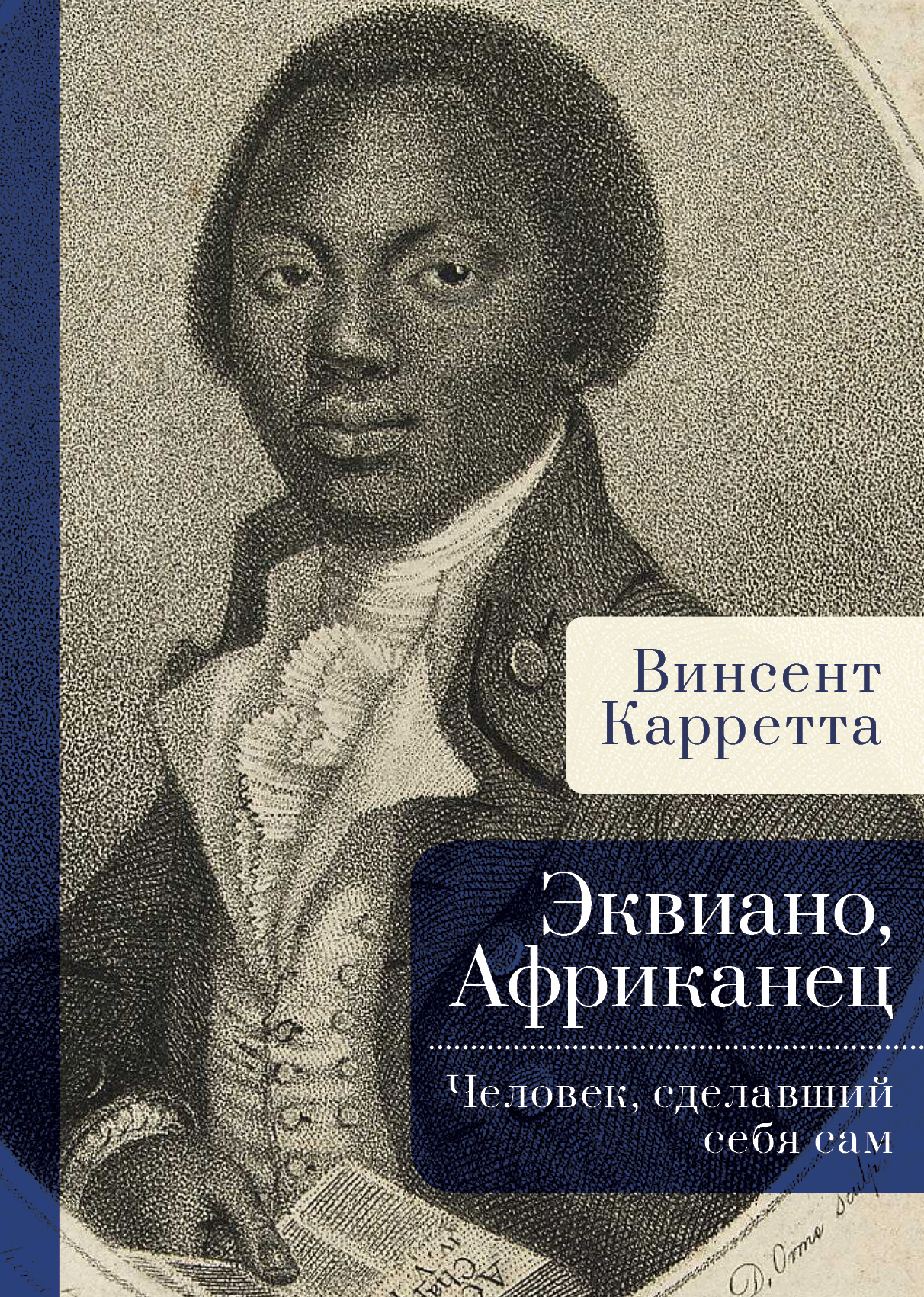полях, пахали и собирали, сажали и пололи. Человека можно довести до такого состояния, что он уже не может думать. Только чувствовать. Чувствовать, что хочет остановиться. Ощущать жжение в желудке и понимать, что хочет есть. Ощущать, что голова словно набита хлопком, и понимать, что хочет спать. Ощущать, как горло сжимается, и огонь растекается по рукам и ногам, а сердце колотится в груди, и понимать, что хочет сбежать. Но бежать было некуда. Мы были преступниками под прицелом тех проклятых доверенных стрелков. Из той долгой вахты состоял весь наш мир там. Люди работали в поле, то тут, то там, доверенные стрелки ходили по краю, возница на своем муле, голос издалека кричал под полуденным солнцем, пел раскатисто рабочую песню, словно рыболовную сеть бросал. Мы были зверями, брыкавшимися в капкане. Однажды моя бабушка рассказала мне историю о своей прабабке. Та пересекла океан, была похищена и продана. Сказала, что ее прабабка рассказывала, что они в деревне жили страхом. Что еда у них во рту превращалась из-за него в песок. Что все знали о смертельном марше к побережью, что пробились новости о кораблях и о том, как на них сажали мужчин и женщин. Некоторые слышали, что тех, кто отплыл туда, далеко, ждала еще менее завидная доля. Казалось, когда корабль уходил за горизонт, он будто постепенно тонул в воде. Она говорила, что они никогда не выходили на улицу ночью и даже днем старались держаться тени своих домов. Но за ней все равно пришли. Похитили ее из дома среди бела дня. Привезли сюда, и она узнала, что те корабли не уходили на дно под командой белых призраков. Узнала, что на тех кораблях происходили жуткие вещи, пока они не прибывали в порт. Узнала, как кожа подстраивается под оковы. Как рот привыкает к дулу ствола. Как людей превращали в животных под ярким, горячим небом, тем же самым, под которым жила ее семья, где-то далеко в другом мире. Я понимал, что это значит – быть превращенным в животное. До тех пор, пока тот мальчик не вышел на длинную борозду и я снова не начал думать. Беспокоиться о нем. Наблюдать краем глаза, как он плелся сзади, будто муравей, потерявший дорогу.
Не проходит и часа, как я понимаю, что рубашка в сыром автомобиле суше уже не станет, и замечаю его. Маленький мешочек, такой маленький, что два таких могут поместиться на ладони, спрятанный среди моей кучи одежды. Как капля крови размером с булавку в центре яичного желтка: жизнь, которая так и не стала жизнью. Мешочек гладкий и теплый, приятный на ощупь. Сделан, похоже, из кожи и стянут кожаной тесьмой. Я оглядываюсь. Мисти дремлет на переднем сиденье; ее голова кренится вперед, она подымает ее, только чтобы снова уронить вперед. Леони держит руль обеими руками, пальцами выбивая ритм песни на радио; играет кантри, которое я терпеть не могу. Мы едем уже больше двух часов, так что “Черную станцию” с побережья приемник уже час как не ловил. Леони приглаживает волосы на затылке одной рукой, как будто может заставить их лежать смирно, а затем снова принимается настукивать. Я сгибаюсь пополам, поворачиваюсь к двери, закрываясь от взгляда. Тяну тесемку на мешочке. Узел подается, и я распускаю его.
Внутри оказывается белое перо, меньше моего мизинца, белое с голубым и местами черным. Еще нечто, что кажется мне сперва маленьким белым кусочком конфеты, но при ближайшем рассмотрении это оказывается зуб какого-то животного, с черными бороздами, острый, как клык. Какому бы животному он ни принадлежал, оно явно знало кровь, знало, как рвать узловатые мышцы. Потом я нахожу маленький серый речной камень, маленький идеальный купол. Я ворошу указательным пальцем во тьме мешочка, ища что-то еще, и вытаскиваю лист бумаги, скрученный до толщины ногтя. На нем написано наклонными, рваными буквами, синими чернилами: Храни близко.
Почерк то ли Па, то ли Ма. Я точно знаю, потому что видел его всю свою жизнь на католических настенных календарях, на внутренней стороне кухонного шкафчика рядом с холодильником, где они держат список важных имен и телефонных номеров, начиная с Леони. На объяснительных и в дневнике, когда Леони была слишком занята или отсутствовала, чтобы подписать его. А поскольку Ма уже несколько недель не встает с кровати и не может держать в руках ручку, я понимаю, что записку написал Па. Именно Па собрал перо, зуб и камень, именно Па сшил кожаный мешочек и говорит мне: Храни близко.
Колени трутся о спинку сиденья передо мной. Ничего не могу сделать – я уже так вырос, что заднее сиденье хэтчбека Леони стало мне узким и тесным. Леони глядит на меня в зеркало заднего вида.
– Перестань пинать мое сиденье.
Я прикрываю ладонями, как теплой чашей, вещи, которые Па дал мне, лежащие крохотной кучкой на моих коленях.
– Я не хотел, – скажу я.
– Так извиняться надо, – говорит Леони.
Гадаю, делал ли Па что-то подобное для нее в ее предыдущие такие поездки. Выходил ли утром, пока Леони спала, в 9 или 10 утра, и прятал ли тайком что-то в ее машине, какие-то безделушки, которые, по его мнению, могли сохранить ее в безопасности, следить за ней в его отсутствие, защищать ее во время поездок на север Миссисипи. Некоторые мои школьные друзья знают людей, живущих там, в Кларксдэйле или снаружи Гринвуда. Что они говорят: думаешь, здесь плохо? Что они делают: хмурятся. Что они имеют в виду: Там, наверху? В Дельте? Там еще хуже.
Впереди деревья вдоль дороги начинают редеть, и внезапно появляются рекламные щиты. На одном изображено дитя в утробе: красно-желтый головастик, с кожей настолько тонкой, что свет просачивается сквозь нее, словно через мармелад. Защитите жизнь, гласит надпись. Я кладу перо, камень и зуб в мешочек. Скручиваю записку Па так тонко, что она могла бы послужить соломинкой для коктейля какой-нибудь мыши, и кладу ее в мешочек, завязываю его и убираю в небольшой квадратный карман, пришитый к поясу моих баскетбольных шорт. Леони больше на меня не смотрит.
– Извини, – говорю я.
Она хмыкает.
Кажется, я понимаю, что мои друзья имеют в виду, когда говорят о севере Миссисипи.
Па рассказывал мне некоторые части истории Ричи снова и снова. Начало я слышал столько раз, что и не перечесть. Некоторые части из середины, о бандитском герое Кинни Вагнере и злом Свинорыле, я слышал только раз или два. Но я никогда не слышал конца. Иногда я пытался записывать эти истории, но получались просто какие-то плохие стихи, хромающие по странице: Объездка лошади. Следующая