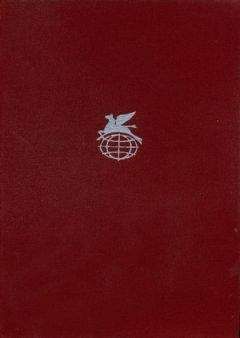— Вух, вух-вух-хх…
В тёплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков: маленький, сивый дядя Петр, немой племянник его Стёпа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди, — и невесёлый, длинный татарин Валей, денщик. Всё это были люди новые, богатые незнакомым для меня.
Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна — в сад и на двор.
Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в чёрной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:
— Хорошее дело.
Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.
— Лёнька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?
Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрёпанный и неловкий, плавил свинец. паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.
Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонь спиртовой лампы на столе, тёмную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрёпанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины; колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.
Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нём.
Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны — в пятнах и заплатах, на босых ногах — стоптанные туфли. Бедные — не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное — со стороны деда.
Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нём посмеиваясь; весёлая жена военного звала его «меловой нос», дядя Пётр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником, фармазоном.
— Чего он делает? — спросил я бабушку. Она строго откликнулась:
— Не твоё дело; молчи знай…
Однажды, собравшись, с духом, я подошёл к его окну и спросил, едва скрывая волнение:
— Ты чего делаешь?
Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:
— Влезай…
То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, ещё более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и наконец спросил негромко:
— Ты откуда?
Это было странно: я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него! Я ответил:
— Здешний внук…
— Ага, да, — сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.
Тогда я счёл возможным пояснить ему:
— Я не Каширин, а — ПешкОв…
— ПЕшков? — неверно повторил он. — Хорошее дело.
Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу сказал:
— Ну, сиди смирно…
Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из тёмной бутылки, — в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:
— Скверно пахнет?
— Да!
— То-то же! Это, брат, весьма хорошо!
«Чем хвастается!» — подумалось мне, и я строго сказал:
— Если скверно, так уж не хорошо…
— Ну? — воскликнул он, подмигивая. — Это, брат, не всегда, однако! А ты в бабки играешь?
— В козны?
— В козны, да?
— Играю.
— Хочешь — налиток сделаю? Хорошая битка будет!
— Хочу. — Неси давай бабку.
Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в неё одним глазом, подошел и сказал:
— Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне, — хорошо?
Это меня прежестоко обидело.
— Я и так не приду никогда…
Обиженный, я ушел в сад; там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь; осень была, уже давно начался листопад.
— Ну-ко, подстригай малину, — сказал дед, подавая мне ножницы.
Я спросил его:
— Хорошее Дело чего строит?
— Горницу портит, — сердито ответил он. — Пол прожёг, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему — съезжал бы!
— Так и надо, — согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника.
Но я — поспешил.
Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей: извозчиков, денщика; часто являлась бойкая Петровна, иногда приходила даже весёлая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал Хорошее Дело. Немой Стёпа играл с татарином в карты; Валей хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал:
— Аш-шайтан!
Дядя Пётр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье «семечки» в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь.
— Пожалуйте-ко милостью, покушайте! — ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою тёмную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком.
Петровна приносила вишнёвую наливку в бутылке, весёлая барыня — орехи и конфетти. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие.
Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело предложил мне взятку за то, чтоб я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуёмный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену, — в кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг ко другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше.
Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнём маленькой жестяной лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя:
— Мне сверху надо говорить, — сверху-то лучше!
Я поместился у ног её, на широком приступке, почти над головою Хорошего Дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника; мерно лились сочные, веские слова:
Жил-был злой воевода Гордион,
Чёрная душа, совесть каменная;
Правду он гнал, людей истязал,
Жил во зле, словно сыч в дупле.
Пуще же всего невзлюбил Гордион
Старца Мирона-отшельника,
Тихого правды защитника,
Миру добродея бесстрашного.
Кличет воевода верного слугу,
Храброго Иванушку-воина:
— Подь-ка, Иванко, убей старика,
Старчища Мирона кичливого!
Подь да сруби ему голову,
Подхвати её за сиву бороду,
Принеси мне, я собак прокормлю!
Пошёл Иван, послушался.
Идет Иван, горько думает:
«Не сам иду — нужда ведёт!
Знать, такая мне доля от господа»
Спрятал вострый меч Иван под полу,
Пришёл, поклонился отшельнику:
— Всё ли ты здоров, честной старичок?
Как тебя, старца, господь милует? —
Тут прозорливец усмехается,
Мудрыми устами говорит ему:
— Полно-ка, Иванушко, правду-то скрывать!
Господу богу — всё ведомо.
Злое и доброе — в его руке!
Знаю ведь, пошто ты пришел ко мне! —
Стыдно Иванке пред отшельником,
А и боязно Ивану ослушаться.
Вынул он меч из кожаных ножон,
Вытер железо широкой полой.
— Я было, Мироне, хотел тебя убить
Так, чтобы ты и меча не видал.
Ну, а теперь — молись господу,
Молись ты ему в останний раз
За себя, за меня, за весь род людской,
А после я тебе срублю голову!.. —
Стал на коленки старец Мирон,
Встал он тихонько под дубок молодой,
Дуб перед ним преклоняется.
Старец говорит, улыбаючись:
— Ой, Иван, гляди — долго ждать тебе!
Велика молитва за весь род людской!
Лучше бы сразу убить меня,
Чтобы тебе лишнего не маяться! —
Тут Иван сердито прихмурился,
Тут он глупенько похвастался:
— Нет, уж коли сказано — так сказано!
Ты знай молись, я хоть век подожду! —
Молится отшельник до вечера,
С вечера он молится до утренней зари,
С утренней зари он вплоть до ночи,
С лета он молится опять до весны.
Молится Мироне год за годом,
Дуб-от молодой стал до облака,
С жёлудя его густо лес пошёл,
А святой молитве всё нет конца!
Так они по сей день и держатся:
Старче всё тихонько богу плачется,
просит у бога людям помощи,
У преславной богородицы — радости,
А Иван-от воин стоит около,
Меч его давно в пыль рассыпался,
Кованы доспехи съела ржавчина,
Добрая одёжа поистлела вся.
Зиму и лето гол стоит Иван,
Зной его сушит — не высушит,
Гнус ему кровь точит — не выточит,
Волки, медведи — не трогают,
Вьюги да морозы — не для него.
Сам-от он не в силе с места двинуться,
Ни руки поднять и ни слова сказать, —
Это, вишь, ему в наказанье дано:
Злого бы приказу не слушался,
За чужую совесть не прятался!
А молитва старца за нас, грешников,
И по сей добрый час течёт ко господу,
Яко светлая река в окиян-море!
Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и всё вытирал быстрым движением ладони лоб и щёки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел: