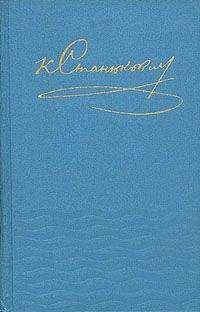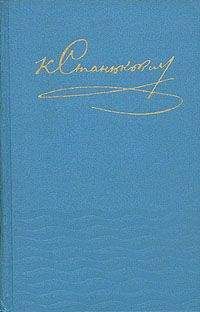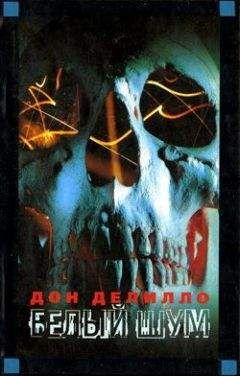— К шести должны ведь прийти, а?
— Надо прийти-с! — отвечает штурман, сам охваченный волнением, которое он скрывает под видом обычной своей суровости.
— А вовремя возвращаемся… Опоздай день-другой… Кронштадт бы замерз. И то у берегов льдины! Пришлось бы в Ревеле* зимовать!
Через несколько минут он спускается вниз и говорит на ходу вахтенному офицеру:
— Как покажется Толбухин маяк, пришлите сказать!
— Есть!
Но капитану не сидится и не дремлется на мягком диване его большой, роскошной каюты. Он словно на иголках, — этот коренастый, плотный, крепкий моряк лет под пятьдесят. Умевший владеть собой во время штормов, он решительно не может теперь справиться с нетерпением, которое отражается на его красном, обветрившемся лице с выкатившимися глазами и небольшим вздернутым носом, на его порывистых движениях. Он то встает, то садится и беспощадно теребит своими толстыми короткими пальцами седоватые подстриженные баки и рыжие усы. И у него вырываются отрывистые слова:
— Миша, пожалуй, и не узнает… Вырос… Катя… большая девица теперь… Володя… Милые мои!
Его лицо светится нежной отцовской улыбкой, глаза слегка заволакиваются, и он теперь совсем не похож на того свирепого капитана, прозванного «бульдогом», которого так боялись, во время авралов и учений, офицеры и матросы.
Вал винта быстро вертится с обычным постукиванием под полом капитанской каюты. Капитан прислушивается, считает обороты винта, и ему кажется, что их будто бы меньше, чем было. Он надевает фуражку на свою круглую, коротко остриженную голову, действительно напоминающую бульдога, и снова поднимается на мостик.
— Лаг! — приказывает он.
Бросили лаг и докладывают, что девять узлов хода.
— Старшего механика попросить!
Через минуту является засаленный и черный Иван Саввич.
— Сколько фунтов пара держите?
Иван Саввич говорит.
— Нельзя ли еще поднять фунтиков десять?
— Можно-с.
— Так поднимайте и валяйте самым полным ходом!
Когда механик ушел, капитан посмотрел вокруг, взглянул на голые брам-стеньги и сказал вахтенному офицеру:
— Ставьте-ка брамсели!
Наконец, в пятом часу открылся Толбухин маяк, а через два часа «Грозный» показал свои позывные и, минуя брандвахту, входил на пустой кронштадтский рейд.
Город и мачты судов в гавани едва чернели в белой мгле падающего снега.
— Свистать всех наверх на якорь становиться! — раздалась веселая и радостная команда вахтенного офицера.
— Свистать всех наверх на якорь становиться! — проревел так же радостно боцман.
И эти крики отозвались невообразимою радостью в сердцах моряков.
— Из бухты вон, отдай якорь! — скомандовал старший офицер.
Якорь грохнул в воду. Якорная цепь с лязгом завизжала в клюзе, и «Грозный», вздрогнув, остановился на малом рейде, близ стенки купеческой гавани, почти на том же самом месте, с которого он ушел в дальнее плавание три года и два месяца тому назад.
Офицеры радостно поздравляли друг друга с приходом. Матросы, обнажив головы, благоговейно крестились на Кронштадт. Бледный от волнения и усталости, Никандр Миронович в ответ на поздравления Кривского крепко пожимал ему руку, не находя слов.
А снег так и валил на счастливых моряков.
— На капитанский вельбот! На катер! Баркас к спуску!
Через несколько минут шлюпка с офицерами и баркас с женатыми матросами отвалили от борта на берег. На корвете остались лишь старший офицер да легкомысленный мичман, охотно ставший на вахту за товарища, спешившего обнять сегодня же старушку мать.
XIII
На следующее утро, радостное и счастливое для Никандра Мироновича, словно для узника, освобожденного после долгих лет неволи, — он все еще, казалось, не смел верить своему счастию, что он со вчерашнего вечера снова около своей Юленьки, необыкновенно кроткой, нежной, встретившей его внезапными слезами, и уж более с ней не расстанется, — он у себя дома, в веселом, уютном гнездышке, где все дышит любимой женщиной, счастливый и благодарный, под впечатлением ее порывистых, горячих ласк, которыми она точно хотела его вознаградить за долгую разлуку, — сидит теперь, как три года тому назад, в маленькой столовой, за круглым столом, на котором весело шумит блестящий пузатенький самовар. На подносе его большая чашка — давнишний подарок Юленьки в день его именин, — из которой он так любит пить чай.
Вот и Юленька. Она только что пришла из спальни — свежая, белая, с румянцем на круглых щеках, необыкновенно хорошенькая, в своем светло-синем фланелевом капоте, с надетым поверх груди белым пушистым платком, в маленьком кружевном чепце, из-под которого выбиваются подвитые прядки черных блестящих волос. Она села за самовар и стала разливать чай, слегка смущенная и притихшая.
Никандру Мироновичу чувствовалось необыкновенно хорошо и уютно. Чай, поданный этой маленькой белой ручкой, украшенной кольцами, казался ему особенно вкусным, сливки, масло и хлеб — превосходными.
Чай отпит, самовар убран, а они все сидят за столом. Никандр Миронович все еще не может наговориться. Вчера Юленька была взволнованна и говорила мало. Что она делала в эти три года? Как проводила без него время? Есть ли новые знакомые? Какие?
Юленька удовлетворяет любопытство мужа, но не вдается в большие подробности. Жизнь шла однообразно, она скучала…
— Я, впрочем, обо всем тебе писала! — прибавляет она, и в голосе ее звучит какая-то беспокойная нотка.
Переполненный счастьем, умиленный Никандр Миронович не слышит этой тревожной нотки в нежном голосе своего «ангела». Он не замечает, как какое-то выражение не то беспокойства, не то страха внезапно мелькает на ее лице и снова исчезает в улыбке. Он не видит, что в нежном взгляде ее прекрасных глаз, когда она изредка их поднимает на мужа, есть что-то робкое и приниженное, словно виноватое. Он видит только свою ненаглядную «цыпочку» и глядит на нее влюбленными глазами, глядит, словно не может еще налюбоваться ею, и говорит с веселой улыбкой:
— А вчера я и не заметил. Ведь ты пополнела, Юленька… Да еще как!
Внезапная краска заливает щеки молодой женщины.
— Тебе это идет, право, Юленька… Чего ты конфузишься?..
— Разве я в самом деле пополнела?..
— Есть-таки… Однако что ж это?.. Подарков ты так еще и не видала?.. Не знаю: понравятся ли тебе?
С этими словами Никандр Миронович вышел из столовой.
С хорошенького личика молодой женщины внезапно исчезла улыбка. Оно омрачилось и стало тревожным. Брови сдвинулись, и между ними залегла складка. Глаза сосредоточенно смотрели перед собой. Она тяжело вздохнула и, склонив голову, словно бы под тяжестью какой-то неотвязной мысли, сжимала свои белые руки.
В соседней комнате раздались шаги мужа. Юленька встрепенулась и подняла голову. Лицо ее теперь было серьезно. Взгляд полон решимости. Слабая улыбка играла на устах.
— Ну-ка, посмотри, Юленька, что я тебе привез! — проговорил, входя с ящиками, Никандр Миронович. — Не думай: это не все… На корвете остался еще целый сундук для тебя! — весело прибавил он, открывая ящики.
И Никандр Миронович вынимал и выкладывал перед Юленькой прелестные вещи.
— Да что ты вдруг нахмурилась, Юленька?.. Или не угодил? — с беспокойством спросил Никандр Миронович, заглядывая в лицо жены.
Она, видимо, что-то хотела сказать и не решалась.
— Не нравится, а? — повторил он.
Она подняла на мужа робкий взгляд и, улыбаясь, промолвила:
— Твои подарки прелестны… Спасибо тебе, мой добрый!
И с какою-то нежною порывистостью поцеловала Никандра Мироновича.
— А я думал, что ты недовольна, моя цыпочка, и мне было неприятно… Так довольна?
Юленька стала рассматривать вещи и опять улыбалась. Но вдруг краска сошла с ее лица. Она побледнела, взор стал мутный.
— Что с тобою?.. Ты нездорова? — испуганно спросил Никандр Миронович.
— Ничего, ничего… Пройдет, — отвечала она и вышла из комнаты.
Через минуту Никандр Миронович испуганно заглянул в спальню. Юленька была бледна, как при морской болезни.
— Не послать ли за доктором, Юленька?
— К чему? Доктор не поможет…
— Как не поможет? Что ты? Я сейчас побегу за доктором.
— Не надо! — остановила его с досадою в голосе Юленька. — Разве ты не видишь, какая это болезнь? Я беременна, — неожиданно прибавила она.
Голос ее звучал серьезно и глухо.
В первую секунду мрачный штурман, казалось, не понял значения этих слов и глядел на жену растерянным, недоумевающим взором. Но затем он с укором воскликнул:
— Как тебе не стыдно так зло шутить, Юленька?
Юленька молчала.
— Ведь ты пошутила?! Юлочка! Голубушка! Цыпочка моя! Скажи же! Ведь это неправда? — повторил он глухим, упавшим голосом, чувствуя в то же время и надежду, и страх, и тоску.