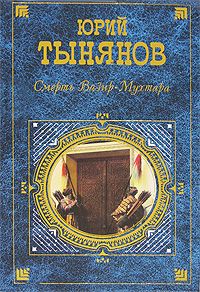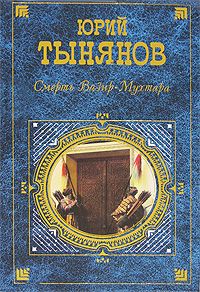17
Сашка спал в грузинском чекмене на диване. Грибоедов зажег все свечи, стащил его за ноги. Он поглядел в бессмысленные глаза, расхохотался и вдруг обнял его.
– Сашка, друг.
Он тормошил его, щекотал. Потом сказал:
– Пляши, франт-собака! Сашка стоял и качался.
– Пляши, говорят тебе!
Тогда Сашка сделал ручкой, потоптался на месте, покружился разок и проснулся.
– Зови из соседнего нумера английского доктора.
Когда лекарь пришел, на столе были уставлены в ряд бутылки и Сашка в грузинском чекмене, снять который Грибоедов ему не позволил, хлопотал с салфеткою в руках. Ему помогал нумерной.
– Значит, вы говорите, что Алаяр-хан меня растерзает, – говорил Грибоедов.
Англичанин пожимал плечами.
– Выпьем за здоровье этого любезного хана, – чокнулся с ним Грибоедов.
Доктор хохотал, щелкал пальцами, пил и наблюдал человека в очках без всякого стеснения.
– Так вы говорите, что Мальта на Средиземном море против англичан – хороший проект покойного императора Павла?
Англичанин и на это мотнул головой.
– Выпьем за упокой души императора Павла.
Ну что ж, англичанин выпил за покойного императора.
– Как поживает мой друг Самсон-хан?
Доктор пожал плечами и посмотрел на Сашку в длинном чекмене.
– Благодарю вас. Кажется, хорошо. Впрочем, не знаю. Выпили за здоровье Самсона.
Пили необыкновенно быстро, ночь была на исходе.
– А теперь, любезнейший доктор, выпьем за вашу Ост-Индию. Как вы думаете, другой Ост-Индии быть не может?
Доктор поставил стакан на стол.
– Я слишком много пил, мой друг! Я уже оценил ваше гостеприимство.
Он встал и пошел вон из нумера.
– Сашка, пляши… Золотой нумерному.
– Ты, голубчик, мне более не нужен.
– Сашка, черт, франт-собака, пляши.
И постепенно, пьяный, с торчащими по вискам волосами, в холодной постели, он начал понимать, кому следует молиться.
Следовало молиться кавказской девочке с тяжелыми глазами, которая сидела на Кавказе и тоже, верно, думала теперь о нем.
Она не думала о нем, она понимала его, она была еще девочка.
Не было Леночки Булгариной, приснилась Катя Телешова – в огромном театре, который должен был рукоплескать ему, автору, и рукоплескал Ацису.
Измен не было, он не предавал Ермолова, не обходил Паскевича; он был прям, добр, прямой ребенок.
Он просил прощения за промахи, за свою косую жизнь, за то, что он ловчится, и черное платье сидит на нем ловко, и он подчиняется платью.
Еще за холод к ней, странную боязнь.
Прощения за то, что он отклонился от первоначального детства.
И за свои преступления.
Он не может прийти к ней как первый встречный, пусть она даст ему угол.
Все, что он нынче делает, все забудется; пусть она утешит его, скажет, что это правда.
Останется земля, с которой он помирится; опять начнется детство, пускай оно называется старостью.
Будет его страна, вторая родина, труды.
Смолоду бито много, граблено.
Под старость нужно душу спасать.
Он сидел у Кати, и Катя вздыхала.
Так она откровенно вздыхала всей грудью, что не понять ее – значило быть попросту глупцом.
Грибоедов сидел вежливый и ничего не понимал.
– Знаете, Катерина Александровна, у вас очень развилась за последнее время элевация.
Катя бросила вздыхать. Она все-таки была актерка и улыбнулась Грибоедову как критику.
– Вы находите?
– Да, вы решительно теперь приближаетесь к Истоминой. Еще совсем немножко, и, пожалуй, вы будете не хуже ее. В пируэтах.
Все это медленно, голосом знатока.
– Вы находите?
Очень протяжно, уныло и уже без улыбки. И Катя вздохнула.
– Вы теперь ее не узнали бы. Истомина бедная… Она постарела… – И Катя взяла рукой на пол-аршина от бедер: – …растолстела.
– Да, да, – вежливо согласился Грибоедов, – но элевация у нее прямо непостижима. Пушкин прав – летит, как пух из уст Эола.
– Сейчас-то, конечно, уж она не летит, но правда, была страсть мила, я не отрицаю, конечно.
Катя говорила с достоинством. Грибоедов кивнул головой.
– Но что в ней нехорошо – так это старые замашки от этого дупеля, Дидло. Прямо так и чувствуется, что вот стоит за кулисами Дидло и хлопает: раз-два-три.
Но ведь и Катя училась у Дидло.
– Ах нет, ах нет, – сказала она, – вот уж, Александр Сергеевич, никогда не соглашусь. Я знаю, что теперь многие его бранят, и правда, если ученица бесталанна, так ужасть, как это отзывается, но всегда скажу: хорошая школа.
Молчание.
– Нынче у нас Новицкая очень выдвигается, – Катя шла на мир и шепнула:– государь…
– А отчего бы вам, Катерина Александровна, не испробовать себя в комедии? – спросил Грибоедов.
Катя раскрыла рот.
– А зачем мне комедия далась? – спросила она, удивленная.
– Ну, знаете, однако же, – сказал уклончиво Грибоедов, – ведь надоест все плясать. В комедии роли разнообразнее.
– Что ж, я старуха, что плясать больше не могу? Две слезы.
Она их просто вытерла платочком. Потом она подумала и посмотрела на Грибоедова. Он был серьезен и внимателен.
– Я подумаю, – сказала Катя, – может быть, в самом деле, вы правы. Нужно и в комедии попробовать.
Она спрятала платочек.
– Ужасть, ужасть, вы стали нелюбезны. Ах, не узнаю я вас, Александр, Саша.
– Я очень стал стар, Катерина Александровна. Поцелуй в руку, самый отдаленный.
– Но хотите пройтиться, теперь народное гулянье, может быть забавно?
– Я занята, – сказала Катя, – но, пожалуй, пожалуй, я пройдусь. Немного запоздаю.
На Адмиралтейском бульваре вырос в несколько дней шаткий, дощатый город. Стояли большие балаганы, между ними – новые улицы, в переулках пар шел от кухмистерских и кондитерских лотков, вдали кричали зазывалы – маленькие балаганы отбивали зрителей у больших. Город еще рос, спешно вколачивались гвозди, мелькали в грязи белые доски, достраивались лавчонки.
По этим дощатым улицам и переулкам медленно, с праздничной опаской, гуляло простонародье в новых сапогах. К вечеру новые бутылочные сапоги размякали и спускались, а они все ходили, жевали струки, с недвижными лицами, степенные.
Вечером тут же, в трактирах, они отогревались водкой и, смотря друг на друга, нехотя, словно по обязанности, орали песни под пестрыми изображениями: медвежьей охоты с красным выстрелом, турецкой ночи с зеленой луной.
Грибоедов с Катей стояли у большого балагана. Катю толкали, и она необычайно метко отбояривалась локотками, но было холодно, и она несколько раз уже говорила жалобно:
– Alexandre…
Но и она была заинтересована.
Дело было в том, что, как только они подошли к балагану, высунулся из-за занавесок огромный красный кулак и помаячил некоторое время. Человека не было видно.
В толпе сказали почтительно:
– Раппо…
То, что был виден только один кулак и этот кулак называли по фамилии, остановило Грибоедова с Катей. Высунулся второй кулак, и первый спрятался. Потом появился опять с железною палкою. Руки завязали палку в узел, бросили железный ком на помост и скрылись. Занавеска раздвинулась, и вместо Раппо выскочил дед с льняной бородой в высокой шляпе с подхватом.
Дед снял шляпу, обернул ее, показал донышком и спросил:
– В шляпе ничего нет?
Добровольцы крикнули «ничего». В самом деле, в шляпе ничего не было.
– Ну так погодите, – сказал дед, поставил шляпу на перила и пошел за занавески.
Грибоедов с Катей смотрели на шляпу. Шляпа была высокая, поярковая.
Прошло минут пять.
– И очень просто, – говорил купец, – а потом вынет золотые часы с цепочкой.
Один молодец взобрался на перила и потряс шляпу, подвергаясь случайности свалиться. Шляпа была пустая.
Катя уже не просилась у Грибоедова уйти, а смотрела как прикованная на шляпу. Так она в театре ждала своего выхода.
Прошло четверть часа, деда не было.
Катя мерзла и ежилась, она опять попросила:
– Alexandre…
Любопытные проталкивались поближе. Шляпа стояком стояла на перилах.
Минут еще через пять вышел дед. В руках у него ничего не было. Он взял шляпу, осмотрел донышко, потом покрышку. Была тишина. Купец отер пот со лба. Дед показал шляпу толпе:
– Ничего нет в шляпе?
– Ничего, – все ответили дружно.
Дед заглянул в шляпу.
– Иии… – кто-то подавился нетерпением.
Дед поглядел в донышко и спокойно сказал:
– А и в сам деле ничего нет.
Высунул язык, посмотрел на всех мальчишескими глазами, поклонился и попятился к занавескам.
Тогда поднялся хохот, равного которому Грибоедов никогда не слышал в комедии.
Старичок мотал головой, молодец стоял с разинутым ртом, из которого ровно несся гром:
– Хыыы.
Катя смеялась. Грибоедов вдруг почувствовал, как глупый хохот засел у него в горле:
– Хыыы…
– Омманул, – пищал старичок и задыхался.
Но толпу тотчас отмело от балагана. Был какой-то конфуз. Купец говорил тихо, идя от балагана: