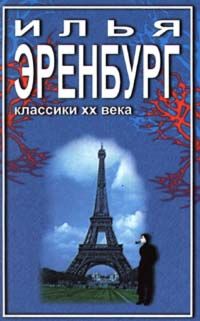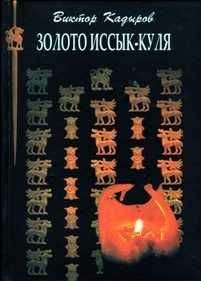Полицейский, не говоря ни единого слова, записал показания, а засим осведомился о шести марках. «Штраф может быть заменен арестом!» Тут в дело вмешался Учитель. Дружески предложил он Шмидту недостающие три марки восемьдесят два пфеннига, говоря, что человек с подобным умом не может терять время в тюрьме.
Засим все мы, захватив Айшу и Эрколе, отправились к Шмидту. Он жил на чердаке, столь тесном, что мы были вынуждены все время стоять не двигаясь, как на площадке трамвая, но отменно опрятном. На стене висели портреты различных особ: кайзера Вильгельма, Карла Маркса, философа Канта, герра Ашингера, владельца двухсот семидесяти ресторанов в Берлине, организаторским талантом которого Шмидт немало восхищался, и большая разграфленная «Система распределения будничных и праздничных дней студента техникума Карла Шмидта». Все время, с семи часов утра, когда Шмидт просыпался, и до одиннадцати вечера, когда он засыпал, было строго разделено на различные занятия. По субботам с 10 до 11 часов вечера Шмидт предавался любви. Он объяснил нам, что любовь его мало интересует, что он собирался даже остаться девственником, но это требовало бы напряжения воли, необходимой для более серьезных дел. Тогда, посоветовавшись со знакомым студентом-медиком, он остановился на решении пожертвовать одним часом в неделю и подыскал скромное, но гигиеническое заведение фрау Хазе.
Придя домой, Шмидт из экономии (проживал он всего шестьдесят марок в месяц) снял костюм, положил его бережно в сундук, ибо другой мебели в комнате не было, сам же остался в нижнем белье. Из бесед с ним мы узнали немало живописных фактов, подтверждавших его страсть к порядку и системе. Оказалось, что, кроме расписания занятий, существует еще другое, посвященное шестидесяти маркам и объемлющее все расходы от стирки носков до суббот у фрау Хазе. Пять месяцев тому назад Шмидт получил от матери дополнительно три марки «на развлечения». Он долго думал, как их разумно истратить, не нарушая воли матери. Ему хотелось купить новую готовальню, но она стоила четыре марки. Он решил было в день рождения тетки Берты устроить праздник, то есть пойти в кафе «Метрополь», выпить кофе и съесть вишневый пирог со взбитыми сливками, но это обошлось бы всего шестьдесят пфеннигов и остающуюся сумму было бы еще труднее истратить. Три марки продолжали лежать в сундуке, и Шмидт объяснил, что не может, чтя глубоко свою мать, отдать их Хуренито.
Засим, разговор перешел на общие темы. Шмидт очень интересовался всеми нами. Существование Айши его смущало, и он признался: он не может вынести мысли, что огромная Африка продолжает пребывать в первобытном состоянии хаоса. Но он оптимист и верит в лучшее будущее. Главное, организовать весь мир, как свою жизнь. Он убежден, что в своей конуре на шестьдесят марок он живет разумнее и прекраснее всех миллиардеров. Он может быть одновременно и националистом, поклонником кайзера и социалистом – по существу это одно и то же. И Вильгельм и любой социалист, оба понимают, что мир неорганизован и что организовать его надо силой. Наш враг – анархизм, все равно, будь то герр Бамбучи, революционер с бомбой, или герр Дэле, который станет завтра министром, но останется рантье, признающим лишь удовольствия. (Служа за переводчика, я перевел эту фразу мосье Дале, и он очень обиделся, главным образом сравнением с Эрколе, одно присутствие которого его всегда стесняло.) Он, Шмидт, много работает в различных областях и механики, и химии, и политической экономии. У него есть множество планов, – к сожалению, при существующем беспорядке их трудно осуществить. Например, окончательное отделение сложных половых проблем от коренного вопроса увеличения народонаселения. Он настаивает на осуществимости искусственного оплодотворения. К сожалению, он не может произвести необходимых опытов. Он убежден в успехе. А в таком случае, им разработан закон об обязательном деторождении. Далее, не менее важный вопрос – замена первобытного питания химическим: устранение голода, нищеты, выигрыш миллиардов рабочих часов. Но когда же он сможет приступить к практической деятельности? Кайзер увлекается пацифизмом, а социалисты о каждым годом домифицируются. Откуда ждать спасения?
Все эти рассуждения, мною переведенные, вызвали взрыв возмущения. Мосье Дэле старался быть спокойным и даже, считаясь с местом, логичным. «Хорошо! Пусть все эти басни могут стать действительностью. И что же? Вместо эскалопа а-ля жардиньер – пилюли (мало мне „пинка“!), вместо Зизи… О, какой ужас! Ни природы, ни красоты, ни любви, ни аппетита – расписание! Но спросите, спросите его, – зачем тогда жить?» Эрколе просто сказал, что, будь это не в проклятой Германии, где за все, абсолютно за все берут штраф, а у себя дома, в Италии, он бы немедленно прирезал этого мерзавца. Какой негодяй! А он еще думал, тогда в саду, что это порядочный человек! Алексей Спиридонович ничего не мог вымолвить. Прижатый мистером Кулем к двери, он вдруг жалобно расплакался и начал шептать «чур-чура! Господи! Господи! Господи помилуй!» Я же испытывал перед Шмидтом смущение и даже страх, как на фабрике перед непонятной машиной в ходу, готовой оторвать голову зазевавшемуся рабочему.
Несмотря на протесты и даже слезы мосье Дэле, Учитель, протиснувшись к Шмидту, сказал: «Я сразу оценил вас. Вы будете моим седьмым, и последним, учеником. Вашим надеждам суждено сбыться скорее, нежели вы думаете, и верьте, я помогу вам в этом. А вы, господа, смотрите – вот один из тех, которым суждено надолго стать у руля человечества!»
Шмидт стоял, добродушно улыбаясь, с кудряшками на голове, в больших очках, в старой заплатанной рубашке. Выслушав Учителя, он кратко ему ответил: «Хорошо, герр Хуренито!»
Глава одиннадцатая.
Пророчество учителя о судьбах еврейского племени
В чудный апрельский вечер собрались мы снова в парижской мастерской Учителя, на седьмом этаже одного из новых домов квартала Гренелль. Долго стояли мы у больших окон, любуясь любимым городом с его единственными, как бы невесомыми, сумерками. С нами был и Шмидт, но тщетно я пытался передать ему красоту сизых домов, каменных рощиц готических церквей, свинцового отсвета медленной Сены, каштанов в цвету, первых огней вдали и трогательной песни какого-то охрипшего старика под окном. Он сказал мне, что все это прекрасный музей, а музеев он не выносит с детских лет, но что есть нечто чарующее и его, а именно – Эйфелева башня, легкая, стройная, гнущаяся под ветром, как тростник, и непреклонная, железная невеста иных времен на нежной синеве апрельского вечера.
Так, мирно беседуя, поджидали мы Учителя, который обедал с каким-то крупным интендантом. Вскоре он пришел и спрятав в маленький сейф пачку документов, измятых в кармане, весело сказал нам:
«Сегодня я хорошо потрудился. Дело идет на лад. Теперь можно немного отдохнуть и поболтать. Только раньше, чтобы не забыть, я заготовлю текст приглашений, а ты, Алексей Спиридонович, снесешь их завтра в типографию „Унион“.
Пять минут спустя он показал нам следующее:
В недалеком будущем состоятся торжественные сеансы уничтожения еврейского племени в Будапеште, Киеве, Яффе, Алжиро и во многих иных местах.
В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов, реставрированные в духе эпохи сожжение евреев, закапывание их живьем в землю, опрыскивание полей еврейской кровью, а также новые приемы «эвакуации», «очистки от подозрительных элементов» и пр., и пр.
Приглашаются кардиналы, епископы, архимандриты, английские лорды, румынские бояре, русские либералы, французские журналисты, члены семьи Гогенцоллернов, греки без различия звания и все желающие. О месте и времени будет объявлено особо.
Вход бесплатный.
«Учитель! – воскликнул в ужасе Алексей Спиридонович. – Это немыслимо! Двадцатый век, и такая гнусность! Как я могу отнести это в „Унион“, – я, читавший Мережковского?»
«Напрасно ты думаешь, что это несовместимо. Очень скоро, может через два года, может через пять лет, ты убедишься в обратном. Двадцатый век окажется очень веселым и легкомысленным веком, безо всяких моральных предрассудков, а читатели Мережковского – страстными посетителями намеченных сеансов! Видишь ли, болезни человечества не детская корь, а старые закоренелые приступы подагры, и у него имеются некоторые привычки по части лечения… Где уж на старости лет отвыкать!
Когда в Египте Нил бастовал и начиналась засуха, мудрецы вспоминали о существовании евреев, приглашали их, резали и кропили землю свеженькой еврейской кровью. «Да минует нас глад!» Конечно, это не могло заменить ни дождя, ни разлившегося Нила, но все же это давало некоторое удовлетворение. Впрочем, и тогда были люди осторожные, воззрений гуманных, говорившие, что зарезать несколько евреев, разумеется, полезно, но землю окроплять их кровью не следует, потому что это ядовитая кровь и даст вместо хлеба белену.