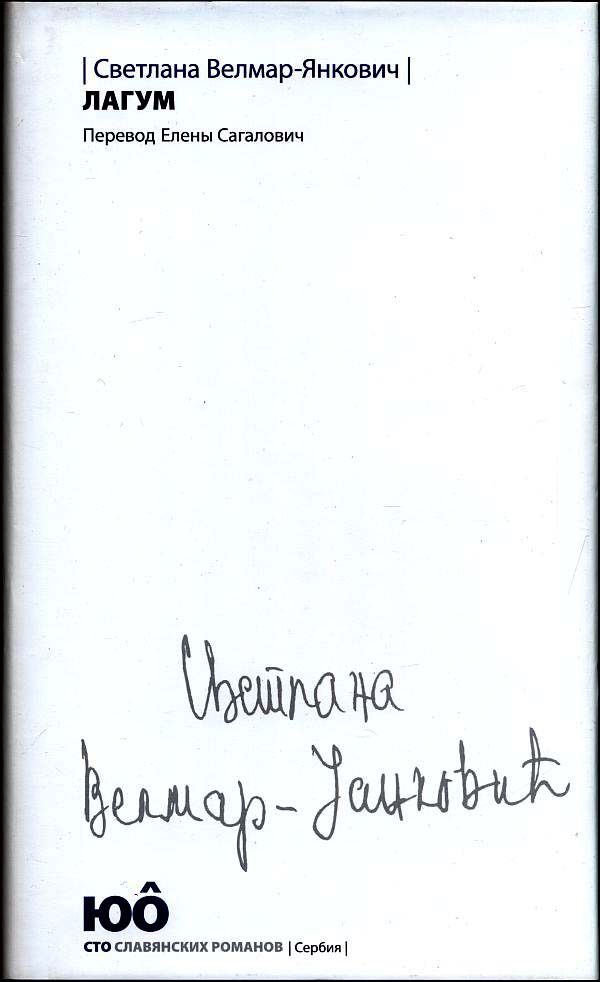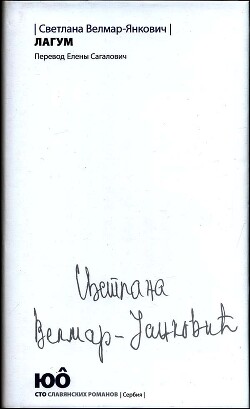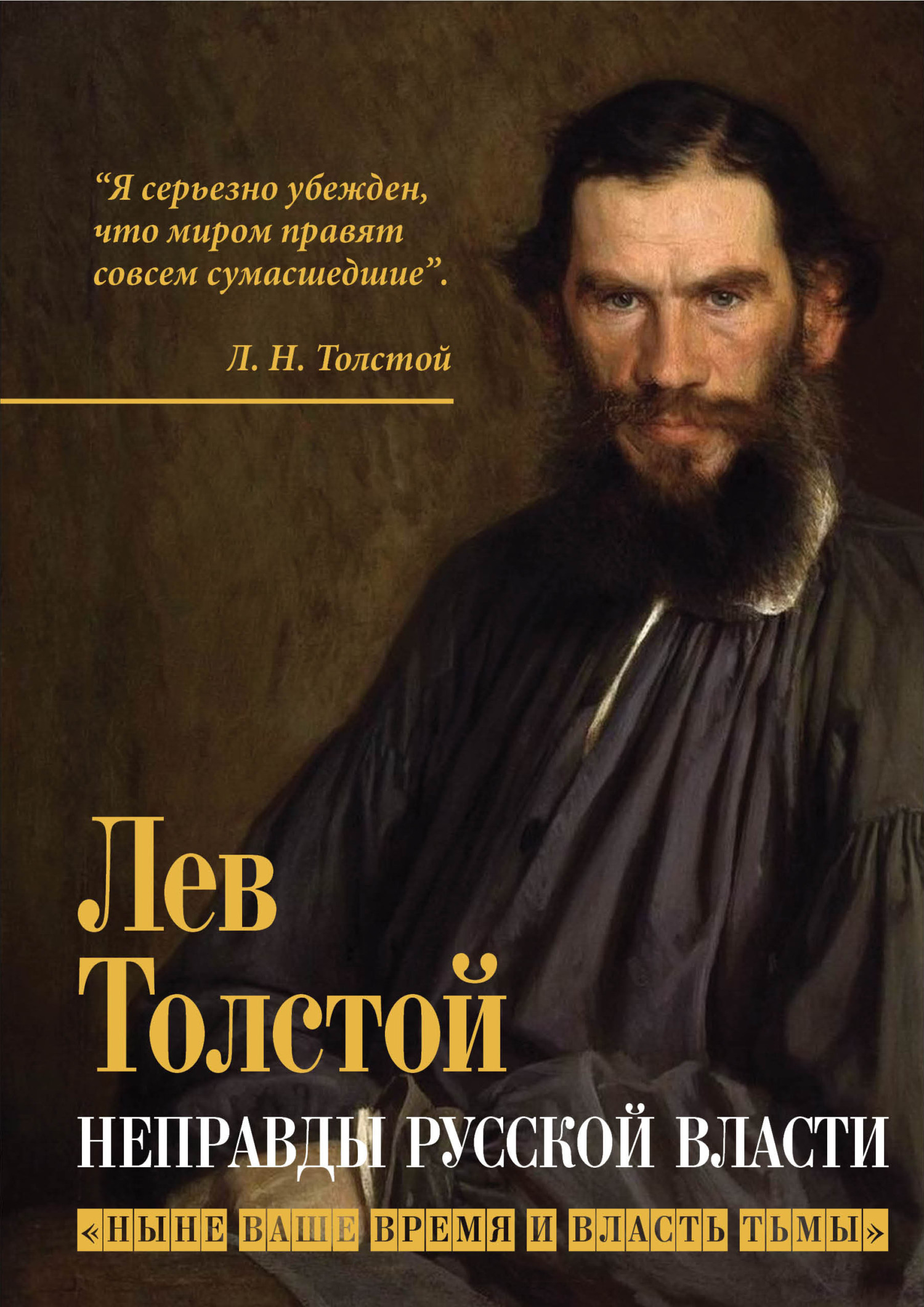белградских
nouveaux riches, а не из старой, состоятельной нови-садской городской семьи, меня ошеломило. В этом ошеломлении я сразу начала представлять, что я, как можно скорее и незаметнее, по мере возможности, уберу все вульгарные финтифлюшки из этой ванной комнаты, но в то же время это означало, что я уже согласилась, без настоящего сопротивления, согласилась на эту квартиру, которая мне казалась уродливой, на это пространство, которое мне было чужим, согласилась с выбором, сделанным мужем, который я только что отчасти поняла, но ни в коем случае не приняла. Кротко согласилась с переменой, которая, — я это предчувствовала, — несет нам что-то темное, и, может быть, судьбоносное. В то же время я заглушала предчувствие, и, наверное, потому становилась все более кроткой. Эту внезапно податливую молчаливую овцу во мне профессор Павлович, в своем воодушевлении вдруг ставший невосприимчивым к неведомым психологическим вибрациям, исходящим от другого существа, воспринимал как само собой разумеющееся согласие своей дивной супруги, как ее участие в его радости. На самом деле моя потребность придушить смех, почти приступ смеха, от нашего недопонимания, была низостью.
Следующие несколько недель я занималась в некотором роде творчеством: пыталась, чтобы проходная комната хотя бы частично избавилась от своего уродства. В ее сумеречной несуразности следовало найти преимущества, и я их находила. Я задумала, что этому помещению в его основной функции аппендикса надо добавить и роль помещения для краткого отдыха, скрыть вульгарное, но добавить что-то изысканное, используя расстановку, и, в особенности, тип мебели, надо было как-то отстраниться от современности, выскользнуть из текущего времени. Не исключено, что это было возможно: интересовавшийся старой мебелью раннего и позднего XVIII века, и особенно английской, и особенно сделанной по образцам мастера Чиппендейла, прежде всего, из-за простоты линий и строгих форм, все-таки несколько смягченных влиянием французского рококо, Душан во время нашей второй поездки в Париж весной 1930 года, — еще не было заметно, что я беременна нашей дочкой, первым ребенком, — водил меня по лавкам известных антикваров. Мы выбирали и ждали, чтобы нам нашли мебель в стиле чиппендейл, заказанную из Англии: мягкие стулья с тонким, едва заметным декором в стиле рококо, сдержанным, как объяснял мне Душан, в большей степени благодаря способу, каким было изогнуто в неглубокой спинке безупречно истонченное красное дерево. Этот способ изгибать древесину Чиппендейл, а позднее и его ученики, — объяснял мой муж, — в пятидесятые и шестидесятые годы XVIII века вносил свой вклад в так называемый стиль français, в котором можно было заметить и элементы стиля chinois, а он тогда был очень моден во Франции. Так из английской простоты, дополненной мелким декором во французском и китайском стиле, мастер Чиппендейл создал свою действительно неповторимую мебель, соединившую в себе и строгость форм, и игру с ними. К стульям с квадратными сиденьями мы подобрали и квадратное канапе, которого долго дожидались, а еще столик, и стол, и два высоких книжных шкафа: один более узкий, угловой, а второй чуть больше. Вся мебель была антикварной и сделанной по образцам Чиппендейла, значит, с прямоугольником, как основой, и из красного дерева, только больший по размеру книжный шкаф, помимо признаков стиля чиппендейл, имел и несколько более выразительные детали в стиле рококо, которыми его украсил Уильям Вайль.
(Разумеется, всегда рассматривался только чиппендейл, ни в коем случае не хепплуайт, и я всегда это знала, а эти два имени путала нарочно и только в присутствии Душана, чтобы позлить его своей напускной рассеянностью, которую он воспринимал как предательство. Если я могла перепутать Чиппендейла с Хепплуайтом, то для Душана это могло означать, что я могла забыть все наши долгие скитания по пыльным парижским антикварным лавкам, все его терпеливые объяснения особенностей стиля чиппендейл, целью которых было сближение его мира с моим; это означало, что я могла забыть те наши прекрасные несколько месяцев, проведенных в Париже, когда мы только приближались друг к другу, прислушивались друг к другу, обожали друг друга. Ей-богу, не знаю, зачем я с ним так поступала, и не помню, чем он мог меня так обидеть, что я так жестоко его обижала в ответ. А, вообще, обидел ли он меня? Может быть, я это делала из дерзости, которая время от времени мной овладевала и всегда оборачивалась лишь страданием, дерзости, которая была, — я только теперь это понимаю, — своего рода метафизическим упрямством отрицания? Если была. Не понимаю, почему я себя так вела, и в теперешнем сейчас, этой осенью 1984 года, я совершенно не понимаю себя тогдашнюю, почти пятидесятилетней давности, пустую и глупую, готовую проверять силу любви и благоволения жизни. Слава богу, эта часть меня угомонилась уже незадолго до войны, а во время войны и вовсе исчезла. Но что сейчас означает эта внезапная мысль, — когда-то мои дети сказали бы, что у меня зашевелились «шарики», «включились лампочки», — понимание пришло именно сейчас, так поздно, позднее быть не может, — что дерзкая часть меня умолкла сразу после воскресенья, 3-го сентября 1939 года, дня, когда открылась большая выставка Савы Шумановича?)
Стулья в стиле чиппендейл с жесткими спинками из кружевного красного дерева для меня навсегда остались признаком неудобства. К этим спинкам действительно было не слишком приятно прислоняться, хотя выглядели они красиво. Не намного удобнее было и короткое элегантное канапе простой прямоугольной формы, с которого у всех садившихся на него немного свисали ноги, а хлипкая спинка немного давила. Вопреки предупреждению Душана, что на чиппендейловских канапе ни в коем случае не предусмотрены подушки, я все-таки заказала тонкие, прямоугольные, жесткие и вследствие самой формы настолько декоративные подушки, что не было заметно, что они шелковые, но было видно, что получились они в некотором согласии с замыслом мастера Чиппендейла, явно склонного считать удобство категорией низшего порядка. Noblesse oblige, — возможно, был уверен он, когда придумывал свою мебель для представителей английской высшей знати в середине XVIII века, хотя уже тогда во Франции, подспудно, созревала будущая революция, которая поставит под вопрос многие формы noblesse. В малом салоне, обставленном чиппендейловской мебелью, которую мы в начале июня 1930-го привезли из Парижа, больше всего мне нравились узкий, но высокий угловой книжный шкаф и чуть широковатый, из так называемого «пламенного махагони», — первая модель изготовлена в 1775 году, — столик для завтраков и послеполуденного чая. Этот столик меня пленил, как только я его увидела, еще на рисунке в каталоге, но в Белграде, когда он, распакованный, возник передо мной, я поняла, что это на самом деле не просто столик, а какая-то прямоугольная волшебная шкатулка. Но не ящик