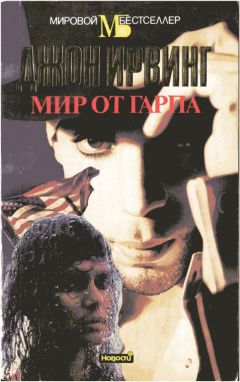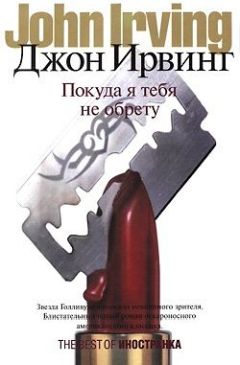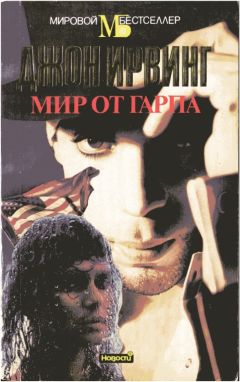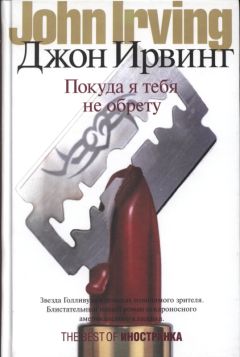на груди.
Жившая в его квартире женщина-транссексуал прислала ему из Нью-Йорка телеграмму:
НАВЕРНОЕ, ТЕПЕРЬ МНЕ ПОРА ВЫМЕТАТЬСЯ, РАЗ Р. УМЕРЛА? ЕСЛИ ВАМ НЕПРИЯТНО, ЧТО Я ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗДЕСЬ ЖИВУ, Я СРАЗУ УЕДУ. ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ, НЕЛЬЗЯ ЛИ МНЕ ВЗЯТЬ НА ПАМЯТЬ ФОТОГРАФИЮ, НА КОТОРОЙ Р. ВМЕСТЕ С ВАМИ? ТО ЕСТЬ, Я ПОЛАГАЮ, ЧТО ЭТО ВЫ. С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ. ВЫ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ШТАНАХ И ФУТБОЛКЕ С НОМЕРОМ 90, КОТОРАЯ ВАМ СЛИШКОМ ВЕЛИКА.
Дункан никогда не отвечал на ее открытки, на ее отчеты о состоянии квартиры и домашних растений, о том, куда она поставила или повесила ту или иную его картину. Однако воспоминания о той старой футболке «номер 90» все же заставили его ответить ей, кто бы ни была эта несчастная застенчивая то ли девочка, то ли мальчик, к которой Роберта, как хорошо знал Дункан, всегда была очень добра.
«Пожалуйста, оставайтесь в квартире сколько захотите, — писал он ей. — Но эта фотография мне самому очень нравится. Когда я наконец встану на ноги, я непременно постараюсь напечатать такую же специально для Вас».
Роберта велела ему разобраться со своей жизнью, и Дункан очень сожалел, что теперь уже не сможет доказать ей, что в состоянии сделать это. Теперь он чувствовал ответственность и удивлялся, как это его отец, писатель, в таком молодом возрасте уже завел детей, завел его, Дункана. Лежа в вермонтской больнице, Дункан принял множество самых разных решений, и большую часть этих решений он выполнит.
Он написал Эллен Джеймс, которая все еще чересчур сильно переживала его беду, и предложил ей приехать и полюбоваться, какой он красивый, весь в бинтах, весь на стержнях
«Пора нам обоим приниматься за работу, хотя мне сперва нужно кое-кого нагнать — тебя, — писал он ей. — Теперь, когда Капитана Энергии уже нет с нами, наша семья кажется мне значительно меньше. Давай же постараемся больше никого не терять».
Он хотел написать и матери, сказать ей, что постарается сделать все, чтобы она могла им гордиться, но, даже произнося эти слова про себя, тотчас почувствовал себя полным идиотом; он знал, какой твердый характер у его матери и как мало ей помогают сентиментальные разговоры и сладкие обещания. Так что новый взрыв своего энтузиазма Дункан обратил на юную Дженни.
— Черт побери, теперь мы должны быть особенно энергичными! — заявил Дункан сестренке, и без того исполненной энергии. — Жаль, что ты почти не знала отца — вот чего тебе действительно не хватает. У него-то всегда можно было разжиться энергией! А так придется тебе вырабатывать ее самостоятельно.
— Энергии у меня вполне хватает! — возразила Дженни. — Господи, как ты думаешь, что я в последнее время только и тратила, о тебе заботясь?
День был воскресный; Дункан и Дженни, как всегда, смотрели по телевизору футбольный матч. А вот и еще одно хорошее предзнаменование, подумал Дункан: вермонтская телестанция в то воскресенье как раз передавала матч из Филадельфии. «Орлы», правда, с позором проиграли «Ковбоям», но сама по себе игра не имела значения; Дункан более всего ценил не игру, а церемонию, предшествовавшую каждому матчу. На этот раз флаг был приспущен в связи с кончиной бывшего «крепкого орешка» Роберта Малдуна. На табло мерцали цифры — 90! 90! 90! Дункан отметил, как все-таки изменились времена: например, феминистские похороны теперь устраивались повсеместно, он только что читал о грандиозном действе в Небраске. А в Филадельфии спортивный комментатор умудрился сказать без всяких ужимок и подмигиваний, что флаг приспущен в честь Роберты Малдун, и пробормотал смущенно:
— Она была поистине выдающимся спортсменом! А какие у нее были замечательные руки!
— Исключительная личность! — согласился и второй ведущий.
А первый сказал:
— Н-да, она так много сделала для… — и мучительно запнулся.
Дункан все ждал, когда же он скажет, для кого именно — для всяких уродов, для странных людей, для жертв сексуального насилия, для его отца, для его матери, для него самого и для Эллен Джеймс…
— Она так много сделала для людей, у которых жизнь оказалась слишком сложной! — сказал наконец комментатор, удивив и самого себя, и Дункана Гарпа, но сказал он это с достоинством.
Играл джазовый ансамбль. Далласские «Ковбои» буквально «вынесли» с поля филадельфийских «Орлов»; это было первое крупное поражение из многих других, которые «Филадельфия Иглз» еще потерпит. И Дункан Гарп вполне мог представить себе, как бы его отец оценил страдания комментатора, старавшегося быть одновременно профессиональным, тактичным и добрым. Дункан прямо-таки слышал, что отец и Роберта хором вопят по этому поводу; отчего-то Дункан чувствовал, что Роберта где-то здесь и лично слушает славословия по своему адресу. И она, и Гарп пришли бы в восторг от того, как неуклюже это делалось.
Гарп безусловно стал бы передразнивать комментатора: «Она так много сделала, введя в моду искусственную вагину!»
«Ха!» — гремела бы Роберта.
«О господи! — покатывался бы со смеху Гарп. — Господи!»
Когда Гарпа убили, вспомнил Дункан, Роберта грозила снова переменить свой пол. «Я лучше снова буду паршивым мужичонкой, — рыдала она, — чем допущу, чтобы в мире существовали женщины, которые с жадным любопытством глазеют по телевизору на это грязное убийство, совершенное грязной шлюхой!»
«Прекрати это! Прекрати! Никогда больше не произноси этого слова! — поспешно нацарапала ей записку Эллен Джеймс. — Сейчас в мире существуют только те, кто его любил и знал, и те, кто его не знал и не любил, — мужчины и женщины!» — писала Эллен Джеймс.
И тогда Роберта Малдун сгребла их всех в охапку — одного за другим — и щедро, с полной серьезностью заключила в свои медвежьи объятия.
Когда Роберта умерла, Хелен позвонила одна из способных говорить представительниц Филдз-фонда. А потом Хелен, в очередной раз собравшись с силами, должна была позвонить Дункану в Вермонт. Но Хелен позвонила Дженни и посоветовала ей, как лучше всего сообщить брату страшную весть. Дженни Гарп унаследовала отличные качества сиделки от своей знаменитой бабушки Дженни Филдз.
— Плохие новости, Дункан, — прошептала Дженни, нежно целуя брата в губы. — Старый номер девяносто пропустил мяч…
Дункан Гарп, сумевший оправиться и после первого несчастного случая, когда он лишился глаза, и после второго, в результате которого лишился руки, стал хорошим серьезным художником, в каком-то отношении даже пионером в создании особой разновидности цветной фотографии; этого он достиг не только благодаря своему таланту и чувству цвета, но и унаследованной от отца упорной привычке сугубо личного восприятия мира. Он не создавал бессмысленных образов, тут нет никаких сомнений, однако привносил в свое искусство элемент мрачноватой таинственности, чувственный, почти нарративный реализм; зная, кто он