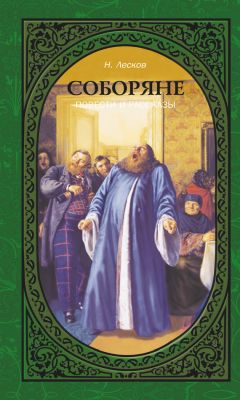С безропотным христианским смирением низошел старик со света в темный каземат, и этот каменный гроб, куда схоронили от жизни Кочетова, с первого же дня его заточения дохнул на небо хвалою и песнью бессмертного духа. Стоя на коленях на черных плитах своей подземной темницы. Мина Силыч запел своим старческим голосом из-под земли: «На камени мя веры утвердил еси, расширив уста моя на враги моя и возвесели бо ся дух мой». И песнь его далеко разнеслась людьми, слышавшими ее из окна темницы и повторявшими ее, как песнь оскорбленного ангела.
Между тем, пока узник укреплял дух свой размышлениями и вдохновенными песнями, на русском престоле воцарился император Александр Павлович. Не прошло года с этого воцарения, как перед Миною Силычем разверзлись тяжелые двери его темницы. Нежданный и негаданный явился он домой, убеленный сединами и украшенный ореолом страдания. Старый Город зарыдал от радости и со слезами восторга запел Богу благодарственные молебны. Долгое изгнание Мины Силыча не воспитало ни одного честолюбца, который пожелал бы оспоривать первенство у возвращенного узника, и Мина Силыч опять стал во главе общины и опять начал править мирской корабль.
Шли годы. Русь сразилась с Наполеоном; смятенный народ с часу на час ждал разрушения мира и вдруг услышал о победе и изгнании врага из пределов отчизны. Победитель, увенчанный благословениями Европы, собирался в Москву, где по этому случаю ожидали патриотических торжеств, долженствовавших ознаменовать свидание царя с отстоявшим себя народом. Славой Александра и любовью к нему исполнилась вся земля русская: раб и свободь и всяческая не уступали друг другу в теплейшем сочувствии руководителю совершившихся судеб. Старик Кочетов, принимая все это к своему чуткому сердцу, ходил задумчив. Он внимательно прислушивался ко всяким толкам, все что-то соображал и наконец, помолясь Богу, собрал в молельню стариков, положил перед ними древний «начал» христианский и сказал:
— Имею я, православные, на мысли съездить в Москву.
— Значит, есть на то божие произволение, батюшка Мина Силыч, — отвечали ему в один голос православные.
— Хощу бо, братия мои возлюбленные, помолиться у святых мощей святителей божиих Алексея, Ионы и Филиппа за моего освободителя и за освободителей веры нашей и всея державы российской.
— Услышь Господь твою молитву праведную! — отвечали собранные старцы.
— Может быть, и радость какую привезу оттуда, — продолжал, уповательно глядя на небо, Мина Силыч.
— Сердце царево в руце божией! — так же уповательно отвечали ему старцы.
— А вы, православные, помолитесь источнику света и смысла подателю.
— Поклонимся, отец наш, и припадем цареви и Богу нашему.
Затем Мина Силыч поклонился до земли старикам; старики поклонились до земли Мине Силычу; все во Христе братски облобызались и разошлись. Мина Силыч уехал. Прошел месяц, другой, наступил и третий, а от Мины Силыча не приходило никакого известия, и вдруг в половине третьего месяца получено от него послание. «Весть некую, дивную, имам поведать вам, отцы, братия и чадца. — писал Мина Силыч. — Отжените от себя дух суемудрия и гордыни, всячески припадайте к Светодавцу, бдите и молитеся да не внидем в напасть; секира болежит при корени, и всяко древо, не приносящее плода доброго, посекается и в огнь вметается. Огнен глагол и слово нельстивое принесу вам; но к сему не блазнитеся и не стужайтеся духом; но испытуйте разумом и егда приидет час, с рассуждением всяким приймите».
Ничего не могли себе растолковать деды Старого Города, получив это послание батюшки Мины Силыча, и по его наказу только усерднее припадали и молились.
Приехал наконец и сам Мина Силыч. Он приехал важный, строгий, с лицом серьезным и озабоченным. Приняв хлеб-соль на крыльце своего дома, он никого не позвал к себе и сам ни к кому не зашел, а попросил всех собраться завтра утром в молельню.
— Призовем сил небесных воеводу и стратига и там побеседуем, — произнес он, словно ополчаясь на брань и призывая на свой стяг благословение небесного воеводы.
Утром в молельне пели большой молебен. Мина Силыч вошел в рабском азяме с лестовкой и стал сзади всех в уголочек.
— Отцы, братия и чадца! — начал он, приложившись после молебна к налойному образу, — ведомо ли из писания вам, что раздельшееся о себе царство — погибнет?
— Ведомо, — пронеслось в ответ в народе.
— Ведомо же, уповаю, и сие, что «уне есть единому человеку погибнути за люди, да не приидет им соблазн в мир?»
— И сие ведомо.
Мина Силыч поклонился и продолжал другим тоном:
— Теперь, мню, небезызвестно всем вам, что, по своей чрезмерной милости, неисповедимый Господь избрал меня на некий краткий час сосудом терпения и сподобил пострадать за святую веру отеческую?
— Знаем, батюшка наш Мина Силыч, помним, родитель дорогой, помним, — волною прокатилось по всей молельне.
— Поведаю же вам ныне, — заговорил, вздохнув из глубины груди, патриарх, — что был я в первопрестольном граде Москве. Совершил я путь сей сколько своим хотением, столько же и произволением божиим; видел пресветлые очи царские; обласкан был его словом милостивым и собеседовал с святителем коломенским.
По молельне пронесся неровный шепот.
— И того ради, — продолжал, не обращая на это внимания, Кочетов, — послал я вам послание мое рабское о глаголе огненном, его же прииде час возвестити вам. Отцы, братия мои и чадца! — Мина Силыч осенил себя большим крестом и сложил на груди накрест свои руки и опустился передо всем народом на колени. — По вере моей глубокой и по моему истинному обращению приобщен я тела и крови Господней из рук иерея божия во святом храме русском, древнем, и всякую рознь с общею матерью нашею церковью русскою отвергаю и порицаю.
Произнеся этот «огнен глагол», Мина Силыч поклонился до земли и не поднял своей белой головы от полу. Народ стоял, как стадо овец, испуганное внезапно блеснувшею молниею. Никто не ответил Кочетову ни одним словом, и в глубочайшем молчании вся смущенная семья старогородская, человек по человеку, разошлась по домам своим. Последний поднялся с полу Мина Силыч, поклонился у порога сторожу, произнося «прости, будь милостив», и побрел ко двору своему, глубоко тронутый, но спокойный.
Результатом этого «глагола» было первое разъединение в Старом Городе, не знавшем до сих пор общественного разлада. Дух новшества, дух прогресса ударил Старый Город в те же самые религиозные интересы, которым обыкновенно наносили удары вои княжецкие и полки царские; но нынешнее новшество смутило Город паче всего доселе бывшего.
— Враг внюду нас есть, — шепнули дрогнувшие в страхе суеверные сердца и увидали отсюда начала болезням.
На Мину Силыча ополчился целый собор; и после долгих бесед и прений стариков с Миной Силычем «царство разделилось». Авторитет Кочетова оказался так велик, доводы его так убедительны, что добрая половина Старого Города немедленно же пошла во след своего старого наставника. Таким образом воочию всех в Старом Городе совершилося то, чего столетие назад сильные воеводы не могли добиться ни пытками, ни пищалями, ни кнутами. Совершилось все это мирно, просто, по манию одного человека, души которого касалась искра Божия и свет разумения.
Но не все, как сказано, ушли вслед за восторженным Миною Силычем, и другая половина города, под рукою вновь избранного ею себе наставника, Семена Дмитриевича Деева, осталась в прежней вере.
От этого дня в Старом Городе стали два согласия, две веры, два рассуждения, два во взаимной друг к другу вражде выраставшие поколения.
Такова, в своих главных чертах, история цивилизации Старого Города, с которою коренные его обитатели должны были встречать все явления позднейшей эпохи и относиться к ним по мере своего разумения.
Уготовившие место селения истлели и рассыпались прахом; но камения вопиют о них и поныне. Как бы вы ни были развлечены, с каким бы равнодушным невниманием вы ни приближались к Старому Городу, его вопиющие камения непременно сумеют заставить вас почувствовать, что у них есть история, и хоть на минуту перенесут вас ко временам этой истории. Все эти конические колокольни, узкие улицы, типические русской постройки дома, остатки стен и валов держат над городом исторический флаг, который говорит вам, что все видимое вами возникло здесь не по указу губернского правления и выводилось не по бесхарактерным планам новейшей архитектуры. Но Старый Город по самой строгой справедливости должно назвать городом не только характерным, но и весьма красивым. Характерные памятники его исторической старины расставлены среди одного из живописнейших местоположений, прелестью которых, как известно, не очень богата наша отчизна. В ряду ровных и однообразных местностей серединной России, местность, занятую Старым Городом, по справедливости следует считать очень веселой и привлекательной. Правда, здесь нет ни могучей Волги, ни сердитого Днепра с их широкими, размашистыми картинами; картина Старого Города маленькая, пожалуй, даже вовсе не картина, а пейзажик, но пейзажик до бесконечности живой и веселый. Оба берега глубокой, судоходной речки, по берегам которой, как сказочный городок в табакерке, раскинут Старый Город, очень круты. Правый из них обрывист, а левый, покрытый зеленою травою, покат. На правом, обрывистом берегу, как раз над самой рекою, возвышается очень старый собор с упомянутою историческою явленною иконой. Если стоять на противоположном пологом берегу, то от собора вниз по течению реки видны необыкновенно высокие, острые фронтоны красных деревянных крыш на каменных домиках и совершенно конусообразные купола старинных желтых колоколен. Еще далее чуть видны над землею одни острые верхушки кровель да высокие дымовые трубы с огромными колпаками из синей горшечной глины. В конце этой, постоянно скрадывающейся и исчезающей на горизонте черты, снова вдруг выступает на берегу тяжелое, очень старинное здание, окруженное каменной стеной, из-за которой тяжело поднимается вверх желтая колокольня, завершенная белым кирпичным куполом с проделанными в нем крошечными продолговатыми окошечками. Это мужской монастырь, которым заканчивается правая сторона Старого Города.