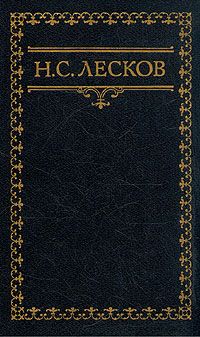– Весьма удивлен, что вашему превосходительству эта венгерка по вкусу пришлась. Правда, ноги сверхъестественные, но метода ее работы не должна бы, кажется, вам нравиться…
– Да какая же у нее метода?
– Изволили видеть, как она своих львов укрощала! Сколько пороху спалила на выстрелы, сколько хлопушек набросала, бичей обломала! Нам, людям военным, от этой стрельбы и прижигании каленым железом по привычке одно удовольствие, но для штатских, а особенно дамских нервов, это одно обременение и мука едва ли стерпимая…
– А разве не все укротители так поступают?
– Далеко не все: у них есть две школы или методы: дикая– wilde Dressur, вот этим манером – огнем и железом, и ручная – zahme Dressur, по которой не только не полагается стрелять, но даже бичом только по воздуху хлопают для одной видимости, а между тем результаты достигаются самые блистательные: и звери слушаются, как шелковые, и в публике полное спокойствие и благодушие. В хороших цирках, например у Ренца в Вене, это варварство давно оставлено, и им только где-нибудь в Линце или в Кракове забавляют, где нет утонченного зрителя, а так как вы сами, ваше превосходительство, редчайший мастер и дока как раз zahme Dressur, то я полагал…
Но тут уж я не дал полковнику договорить и, ничего решительно не понимая, попросил указать, когда и в чем именно мог проявить свои укротительские таланты, да еще в определенном стиле и вкусе?
– А в деле с… – и тут полковник полностью назвал фамилию самоубившегося профессора. – Это ли не образец, и притом совершеннейший zahme Dressur?
Вижу, что человек хвалит меня совсем не по заслугам, прошу полковника подробно все изложить, благо кони довезли к тому времени до дворца, как обстояло это дело, показывая нарочно вид, будто не все подробности помню. По его рассказу дело оказалось куда тоньше, чем я предполагал.
Туг впервые узнал я, что, по их ведомству, кто стоит во главе управлений в университетских городах, обязан при ежегодных поездках в Петербург являться к министру просвещения. Граф Дмитрий Андреевич помянул ему в общих чертах про письмо владыки и велел план действий на месте со владыкой же разработать и по его благословению осуществить. Как лютеранин, полковник затруднился о столь мирских делах беседовать с самим владыкой и, чтобы не отвлекать его от богомыслия, всю стратегию почерпнул все от того же отца Исихия, который на святках графу письмо с просфорою возил.
Прежде всего по их плану надо было узнать, кто в городе первый завистник и конкурент Лассалю. Узнавать тут собственно было нечего: весь город знал, как на того зуб точит Болеслав Конрадович Парасолька, адвокат первой марки, личность тоже очень светлая, но раньше он везде председательствовал и громаду презентировал, а с приездом профессора пришлось ему пересесть на второй план и отодвинуться, чего Парасолька терпеть не мог.
Вот эту самую светлую личность и вызвал полковник к себе в канцелярию. Тот, конечно, явился с лицом, точно в то утро оцет, а не кофе кушал, и как только началась их беседа, вестовой по договору с полковником вызвал его из кабинета. Жандармы еще со времен незабвенного Леонтия Васильевича Дубельта – образец деликатного поведения, и, уходя якобы на минутку, полковник очень извинялся перед Парасолькой. На самом деле он прошел к своей экономке выпить лишнюю чашку кофе, какую она обычно посылала в этот час в служебный кабинет с тем же вестовым. Кофе пил полковник не спеша, затем выкурил папиросочку и, вернувшись после всего этого в кабинет к Парасольке, сугубо извинялся, ссылаясь на важнейшие дела по службе, но сразу же заметил, что гость ему простил бы отлучку и подлиннее: оцет его лика бесследно исчез под сиянием, каким блистал теперь весь его панский лик. Сведя причину вызова к какому-то совершенному пустяку, полковник очень скоро отпустил его с миром, и не успел еще Парасолька покинуть прихожей, как полковник немедленно бросил в камин ту бумагу, какая блистательно сослужила свою службу, про что ясно говорил лик Парасольки! Перед самым его входом полковник на полуслове оборвал черновик секретного рапорта в столицу с представлением об исходатайствовании в сверхсметном порядке денежного вознаграждения за особые услуги нашему профессору Лассалю, имя, отчество, фамилия, чин и адрес которого были поставлены вполне точно. Уходя за вестовым, полковник, будто по рассеянности, оставил бумагу на столе. Весь план был построен на расчете, что такого случая Парасолька не упустит и, оставшись наедине, слюбопытствует, не устояв перед соблазном прочесть бумагу, «исходящую от такого места». Лик Парасольки, сиявший восторгом, подтверждал, что расчет оправдался целиком и что ему на долю выпала высшая радость, доступная передовому интеллигенту: он узнал гадость про своего ближнего.
Бумажка эта, написанная как бы ради пробы чернил, без малейшего основания и желанья отсылать ее куда-либо, все свое назначение с уходом Парасольки выполнила, и ее надо было тут же сжечь. Тот же расчет учил, что Парасолька, подобно цирульнику Мидаса, не станет зарывать в ямку свой секрет, а пустит его гулять по свету. Зная наше передовое общество, можно было рассчитать все действие так же верно, как опытный маркер слабым ударом кия гонит шар в намеченную лузу бильярда, какой и оказалась записка возле трупа на пригородном шоссе.
Полковник показывал вид, будто верит, что весь переданный ему лукавым монахом план и им только в точности осуществленный задуман был мной самим и в крайнем случае дополнен и разработан на совещании с владыкой. Вот это и есть, и притом высшей марки, образчик zahme Dressur в приложении к политической задаче: опаснейшего зверя окрутили и убрали, даже не заряжая пистолета, умялялся полковник, хваля этот номер и за то, что помимо своей прямой цели он оказался плодоносным, так сказать, по инерции.
– Наше общество всегда крепко задним умом, – продолжал полковник. – Парасольке поверили сразу вслепую, и только допустив похоронить своего вчерашнего бога так мизерно и скудно, бросились проверять основательность гнусного слуха. В канцелярии у полковника водились такие гнусные твари, которые, конечно, под его руководством кой-что показывали, конечно, за большую деньгу нигилистам, и теперь за внушительный куш они по исходящему журналу несомненно доказали, что никогда такой бумаги от них вовсе никуда и не посылалось. Это пригодилось и к тому, чтобы помешать возвеличению Парасольки, бросая на него довольно густую тень по части клеветы, и ему пришлось укатить навсегда на любезные шляхетскому сердцу берега Вислы.
Так одним ударом бича по воздуху, во-первых, убрали зверя, во-вторых, обезвредили «светлую личность» Парасольки, в-третьих, дали чиновникам полковника и заработать малую толику и оказать услугу нигилистам, что впутывало их в новые петли доверяя, а главное – здесь администрация проявила настоящую грацию по своей части: ведь кто кушает даже самый жирный пирог или соус, при грации не нарушит белизны ни галстука, ни манжет, так и умелому администратору грация помогает самое неприятное дело развязать так, чтобы на его ведомстве не оказалось ни пятнышка, а вся грязь осталась на тарелке, то есть на самом же обществе.
– По сей день не знаю, – сказал сановник, подымаясь со скамейки, – был ли этот план намечен графом Дмитрием Андреевичем или целиком созрел в тиши монастырской келии нашего владыки, но уверен, что и эту историю с Муромцевым можно было так же мирно разрешить по методу zahme Dressur. Только для этого нужна забытая теперь грация административных приемов и нужно, чтобы армянский пастух русской молодежи или сам обладал умом графа Дмитрия, или обращался к таким умным и тонким помощникам, как мой владыка.
Вторая половина 1893 года.
Мягкая, ручная дрессировка. (нем.).
Не усердствуйте (франц.).