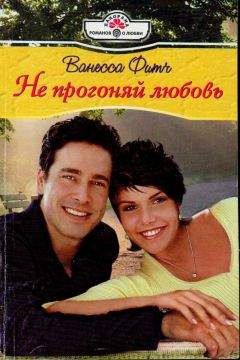С Мишей мы обошли хитровские дворы, съездили пообедать в придорожный ресторанчик "Русская изба" - и название, и деревянный интерьер, и меню в русском стиле были в те годы экзотикой необычайной. С берега Плещеева озера полюбовались, как горит закат в куполах Спасо-Преображенского собора. Осмотрели почти все полуразрушенные в то время часовенки, монастыри и церквушки в окрестностях Москвы.
Я была довольна отпуском и благодарна и Саше, и Мише. Каждый день был праздником. Не знаю, как уж там договаривался Миша на работе, но я ни одного дня напрасно не потеряла. И вдруг - я уже мысленно в Суздале, куда мы с Мишей должны выехать поутру, но звонят: "Мы хотим вас видеть". У меня, конечно, было желание наплести какой-нибудь вздор: больна, уже улетела -, но Миша сказал: "Надо ехать", и мы поехали. И вместо Гаврилова Посада - квартиры Ирины, Сашиной однокурсницы.
В тот вечер на квартире у Ирины собрались Сашины друзья. Было их много, и все они были похожи друг на друга: смуглые, темноволосые, темноглазые, крупные и гладкие. Даже Юра, этот неправильный феерический Юра, оказался сонным и гладким, как масленок. Даже Миша, остренький, юркий, гуттаперчевый Мишка, весь в углах и движениях, словно бы пообкруглился.
Ира и ее мама долго, очень долго копошились на кухне, пока друзья обособленно сидели у разных стен большой квартиры, и я решила, что нас ждет грандиозный ужин, но вот расставили стулья вокруг круглого стола, на стол поставили магнитофон, на магнитофон - пленку, привезенную мной из Хабаровска, и простуженный Сашин голос захрипел: "Там друзья меня ждут молодым неженатым". Друзья слушали, молчали, посматривали друг на друга и вздыхали, и на всех лицах было одинаковое выражение умиления.
Пленка окончилась, и каждый по очереди по кругу сказал несколько фраз о Саше. О том, каким он был в университете. Он был хорошим.
Потом хозяйка повернулась ко мне, положила руку на грудь, тяжко вздохнула и спросила: "Ну, как он там?" - так спрашивали героини советских фильмов военных лет. Все молча повернулись ко мне, и на всех лицах появилось одинаковое выражение напряженного ожидания. Я почувствовала себя узницей Освенцима или ГУЛАГа, что чудом сумела выбраться на свободу с весточкой от сокамерника.
Я не знала их Сашу, круглого и гладкого - ритуального. Я знала Сашу, вовсе не похожего на узника, замученного на галерах, о котором на воле страдают друзья. Азартный и жизнерадостный, он раскатисто хохотал по малейшему поводу, довольный, вручал копеечку со словами "хорошо сказано", настойчиво требовал копеечку себе, если я сама забывала оценить его юмор. Завернутый в покрывало, чтобы комендант, заглянув на шум в дверь, не заметила его галифе и приняла за "своего", он, сам наслаждаясь, учил нас какой-то, на мой взгляд, дурацкой игре в карты со спичками. Мы пили и кофе, и коньяк, и минералку... И - что мы не пили? И постоянно над чем-то хохотали. И отплясывали что-то бешеное в центральном ресторане. И пели полублатные песни, пели с сердцем, с душой, находя в них нужный нам подтекст, которого в них, конечно, не было. И шипели от яростного спора после премьеры в местном драмтеатре. И ночь напролет читали друг другу и всем известные и всеми забытые стихи. А по воскресеньям мы часто сидели рядом в Научке.
Вот о Научке - краевой научной библиотеке я и рассказала Сашиным друзьям. Как он читает научные английские журналы. Как он грустит по Москве. Как он тоскует по ним, своим друзьям.
И друзья, довольные, чуть оживились, заулыбались, дружно закивали головами: "Да... да... Это - Саша. Да, Москва. Да, друзья. Да, наука. Ах, как жаль, он потерял два года. Но он наверстает. Мы знали: он и там не тратит время, он каждую минуту занимается".
Потом хозяйка дома, томная, с округлыми плечами и бедрами, жестами и словами, накрыла стол скатертью, поставила бутылку сухого вина, тарелку с сыром, тарелку с ветчиной, достала фужеры. В фужеры плеснули вино.
И долго сидели.
Время от времени одновременно, как по команде, подносили фужеры к губам и, чуть смочив губы, вновь ставили фужеры на стол. И поддерживали беседу. Говорили опять по кругу, опять каждый по очереди произносил несколько фраз. Но о Саше больше не вспоминали.
Юра сказал, каков "дуб" его руководитель. И все молча улыбнулись со значением и согласно кивнули головами, словно говоря, что понимают скрытый смысл коротенькой фразы и полностью разделяют позицию Юры.
Сердитый парень, оставшийся в моей памяти черным персонажем, видимо, из-за густой черной щетины, вспомнил, как когда-то, еще до университета, когда он служил на срочной, кто-то его обозвал сквозь зубы и поплатился за то, потому что "статья есть специальная в конституции," - сказал парень назидательно, как на занятии ликбеза, словно и о данной статье, и о самом наличии в стране конституции знают лишь посвященные. И все по очереди высказали свою солидарность с черным парнем и полное одобрение достойному возмездию.
Ирина брезгливо помянула своих однокурсниц: все они были примитивны и глупы.
Так и говорили каждый в свою очередь. Прозвучит две-три фразы, за ней общая улыбка и пауза, и снова две-три фразы, тут вновь улыбка, единая у всех, и новая пауза...
И каждый раз выходило так, что и примитивными студентами, и тупыми преподавателями непременно были русские. И во всех историях непременно русские оставались в дураках.
И с каждой произнесенной репликой я, со своими русыми волосами, голубыми глазами и тонкой светлой кожей, чувствовала все большую инородность, нелепость, ненужность себя в этой компании, но не знала, в какой момент удобно встать из-за стола, поблагодарить, попрощаться и уйти прочь, на улицу, на свежий воздух. И зачем-то вместе со всеми подносила фужер к губам, и крошила тоненький кусочек сыру, и все думала, что на Сашином вечере нет Наташи...
... А в Хабаровске хохотал Саша:
- Снобы! Они - отличные ребята. Просто они выпендривались!
- Извини, но я не чувствую себя ущербной от того, что во мне нет еврейской крови, - высказала я Саше свою невысказанную обиду. - Даже могу признаться: мне нравится моя славянская душа, и тело мое славянское мне нравится тоже.
- Да пойми!! Ты - можешь взять другим, а ей больше брать нечем!
Нечем брать? Что?! Окончила Московский университет, аспирантка московского университета. Живет в Москве, почти что в центре, вдвоем с мамой в огромной квартире. Вокруг нее не просто знакомые, приятели - друзья. Не знаю, друг ли Саше тот, сердитый и черный, но дали понять, что он сердечный друг хозяйки дома. Что брать? Что должна с кровью вырвать у жизни эта женщина, чтобы не чувствовать себя обездоленной в нашей стране?
- Она же некрасива, - отмахнулся Саша.
- Неправда. Очень спокойное умное лицо, интеллигентное лицо. Приятное.
- Брось! - поморщился Саша. - Она некрасива. И она это знает. Вот она и берет снобизмом.
Я хотела сказать, что не слишком красивая внешность Ирины не кажется мне исторической виной русского народа, но Саша перебил:
- Да!! Ты знаешь, что она мне написала? Что в тот вечер она ничего такого в тебе не заметила, а вот когда она в метро передавала тебе письмо для меня и вы о чем-то там поговорили, она поняла, что в тебе, действительно, что-то такое все же есть.
- Что-то! - смаковал Саша и хохотал.
А мне запомнилось: "Все же!"
С экрана телевизора говорила женщина, молодая, симпатичная, с суровым лицом непримиримого борца. О том, как ей, тогда еще девочке, абитуриентке, сказали, что для нее, еврейки, путь в университет закрыт. Но она, отличница, в университет поступила. Так закалялся ее характер.
А я - невольно - вспомнила другую девочку, абитуриентку - себя.
На собеседование перед вступительными экзаменами в вуз, которое, в основном, проводили студенты, я попала к заведующей кафедрой иностранной литературы. Мне соболезновали: завкафедрой была личностью известной, говорили, что редкий студент сдает ей экзамен с первого захода.
В то время, как от студентов абитуриенты выходили один за другим, преподаватель продержала меня за столом около часу и отпустила, не сказав на прощание ни слова, лишь молча сделав в ведомости какую-то пометку.
Потом - экзамены. Потом - день зачисления в институт.
У меня было два бала сверх проходного, и была мысль не пойти на зачисление, а погулять, свободной и счастливой, но тщеславное желание услышать о себе приятные слова привели меня в то утро в актовый зал института.
Огромный зал был полон: абитуриенты, родители, преподаватели.
Долго, монотонно и скучно, шла процедура: фамилия, баллы, характеристики, льготы - ученик сельской школы, или житель севера, или демобилизованный из армии. Решение о зачислении. И вновь: фамилия, баллы...
Когда прозвучала моя фамилия, я приготовилась со скромным достоинством услышать хвалебную реплику о блестяще сданных экзаменах, но ректор вяло пробубнил:
- Наверное, лучше ее не принимать.
В тот миг я даже не испугалась. Я просто ничего не поняла.