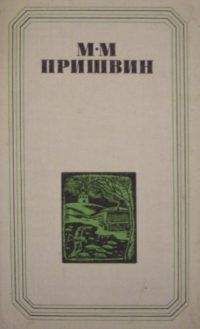Австрийские войска принуждены были отдать Львов и теперь отступают к Кракову. Русская армия следует за ними попятам. Сами демоны помогают москалям: сверхчеловеческие переходы совершают они в самый непродолжительный срок.
Уланы могли бы рассказать еще кое что, благо старое венгерское, выпитое на отощавший желудок, ударило в головы, а глаза юных паненок так и вырывали слова у них изо ртов.
Однако уланам было не до этого — они больше налегали на венгерское и закуску, нежели на болтовню. Это отразилось вскоре и на барышнях. Начавшееся было молодое оживление при встрече своих погасло в самом корне. Нечего было и думать о кокетстве, о легком, невинном флирте. Девушки притихли. Даже пламенные глаза Анельки, бросавшие до этой минуты красноречивые взгляды в сторону бравого красавца-ротмистра, как-то погасли сразу.
Начальник отряда вскоре уехал в селенье, а его уланы остались в имении. Им было приказано устроиться тут на постой, причем пани Картовецкой было вручено письменное распоряжение о том.
Молодые гостьи Ванды разъехались засветло. Хозяйки со своими постояльцами остались одни. Офицеры продолжали пить в столовой, солдаты — на дворе под открытым небом. Все чаще и чаще доносились со двора их пьяные возгласы и крики. Уже смуглая Ануся прибежала в горницы с разорванным лифом и заплаканным лицом, жалуясь на солдат, позволявших с ней грубые, непристойные шутки. Но заступиться было некому — все находившиеся в горнице офицеры были мертвецки пьяны.
Ванда лежала в своей чистой девичьей постели и с испугом прислушивалась к пьяным крикам и хохоту, все еще доносившимся со двора. К этим крикам вскоре присоединились женские голоса, какой-то визг, вопли. Нежная и хрупкая Ванда дрожала в своей девичьей узкой кроватке.
Из угла комнаты на нее смотрело Распятие, озаренное дрожащим светом лампады. С неясной молитвой обратилось к Нему сердце маленькой девушки. Но о чем надо было просить Небо, Ванда не могла сейчас уяснить себе. Ведь бушевавшие внизу солдаты были «свои» солдаты, защитники той страны, к которой принадлежала и она сама. Стало быть, нечего было бояться их. А, между тем, эти дикие крики и хохот невольно внушали страх.
Вдруг отчаянный вопль прервал мысли Ванды, за ним последовал еще вопль и еще. Не было сомнения — кричала Ануся.
«Да, это — она… её голос, её крик», — с ужасом подумала Ванда.
На мгновение крик затих, но затем снова жутким, хлещущим по нервам звуком понесся со стороны сада.
Не помня себя, вскакивает с постели Ванда, подбегает к окну и при свете фонарей, ярко освещающих двор, видит: трое улан, отбившихся от общей группы пирующих на дворе солдат, тащат отчаянно вырывающуюся из их рук Анусю.
Тогда Ванда быстро накидывает на себя халатик, распахивает дверь спальни и несется в столовую, где как она знает, еще бражничают офицеры. Ей надо тотчас же открыть им глаза на поступки их подчиненных, не медля ни минуты, просить их заступничества и выручить Анусю. С этой мыслью она и бежит туда.
На пороге смежной со столовой комнаты чьи-то руки неожиданно схватывают ее в темноте, чьи-то дерзкие пальцы сжимают её плечи, чьи-то отвратительные, пахнущие вином губы присасываются к её губам. Её обнаженные руки касаются холодных пуговиц мундира.
— Куда, моя крошка, куда? — слышит Ванда говорящий по-немецки пьяный от вина и животной страсти голос одного из своих гостей, едва держащегося на ногах.
С силой отталкивает его от себя девушка. Улан-австриец шатается и падает на пол. Нецензурная ругань срывается у него с губ.
Но в тот же миг другие руки подоспевшего сзади другого улана схватывают Ванду.
— Нечего с ней церемониться! — бормочет он пьяным лепетом, перемешивая немецкую речь с польской, — поляки — Те же руссы, то же проклятое славянское племя… предатели и перебежчики, каких мало. Тащи же ее сюда, к нам, девчонку, Людвиг! В женском обществе куда будет веселее пировать!
Это — последняя фраза, которую слышит Ванда. К своему счастью, или несчастью она теряет сознание в тот же миг.