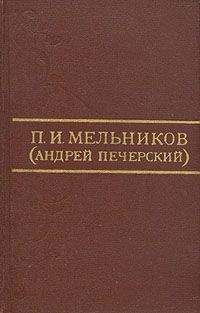— А едете откуда?
— Неподалеку отсюда по делишкам ездил… А как твое имечко святое?
— Иван.
— По батюшке-то как звать?
— Кондратьич.
— А фамилия какая?
— Рыбников.
— Как же это ты, друг мой, Иван Кондратьич, дельцо-то сладил? Говорят, винное дело мудреное. Разве сам прежде кабацкой частью занимался?
— Не бывал я по кабацкой части и не буду… Не дворянское дело… Да что это однако здесь за смотритель? Вот я поверну его по-своему!
И пошел было к дверям.
— Да ты крикни опять его в форточку. Авось услышит, — гнусит старик.
— И в самом деле, — молвил я.
Кричал-кричал я в форточку, и грозил смотрителю, и ругался — ответа нет как нет. А под окном шушукают.
— Ицка! — крикнул я.
Молчат.
— Ицка! Ицка!
— Что у тебя там за Ицка такой? — спрашивает старик.
— Жиденок.
— Как жиденок?
— Да так жиденок. Жидом родился, так и значит жид.
— Гм! Что ж он тут делает?
— Да со мной едет.
— И в Петербурге был?
— И в Петербурге был.
— Жид-от?
— Да! А что?
— Паспорта разве не спрашивали?
— Зачем паспорт? Ицка у меня за крепостного дворового человека.
— Гм! Как же это ты, Иван Кондратьич, на такое дело решился?
— Отчего ж не решиться? Не я первый, не я последний. А я бы еще стаканчик выпил.
— Пей, Иван Кондратьич, пей, мой друг!
И старик налил мне еще стакан чаю.
— Ну что, как у вас в губернии?
— Ничего, слава богу!
— Урожай хороший?
— Порядочный.
— В вашей губернии народ зажиточный, мужики богатые?
— Исправный народ, — ответил я. — Не то, что здесь.
— А здесь разве тебе не нравится?
— Нет, не нравится.
— Чем же не нравится?
— Да как же это? Всех мужиков в солдаты хотят поворотить. Штабов да казарм вокруг Новгорода настроили — одно только стеснение. Мужику дай простор, он и будет исправен. А это на что похоже?
— Что ж тут нехорошего? — спросил старик, немножко насупившись. — Молод еще ты, сударь, так рассуждать!.. Над этим делом работали умы государственные.
— Черта с два!.. Государственные умы!.. Еще здешний, а не знаете, что тут Аракчеев всем ворочает.
— Так Аракчеев, по-твоему, не государственный человек? — глухо и как бы с одышкой прогнусил старик.
— Далеко кулику до Петрова дня!.. Да что об этом дьяволе толковать! Налейте-ка лучше еще стаканчик. А я вас за то отличной пуляркой угощу. Вот только Ицку кликну.
— Не суетись, мой друг. Подожди — успеешь. Ведь нам с тобой торопиться некуда. Потолкуем пока.
— Зачем же из пустого в порожнее переливать да время даром терять? Закусим и марш: вы в деревню, а я в Москву белокаменную.
— А что ж, Иван Кондратьич, в вашей-то губернии, без Аракчеева, разве легче житье-то?
— У нас, батюшка, свои Аракчеевы есть… Чинами только не выше, а то б и почище его были.
— Кто ж это такие?
— А хоть исправники, например… Что они теперь творят!.. У мертвого волос дыбом станет.
— Что ж такое?
— Да хотя бы насчет березок. Какому-то черту пришло в голову березками дороги обсаживать.
— Эта мысль тоже графа Аракчеева!
— Должно быть, что так… Хорошему человеку придет ли на ум такая штука? Теперь мужик летом, чем бы на пашне работать, береги каждую березку, окапывай ее, очищай; подсохнет — новую сади… Лист на которой чуть пожелтеет — поливай ее, либо новую сади. Одна покормка земской полиции чего станет?.. Березки-то, известно дело, не вырастут, а по двадцати копеек с дерева уж собрано.
— Куда же?
— Известно куда! Не нам с вами.
— Земска полиция?
— А то кто же?
— Гм! Сильно берут?
— Да как же и не брать-то?.. Свет на том стоит. Все берут.
— Неужли все?
— Да кто ж враг себе, кто откажется? В Петербурге сам царь живет, да с меня взяли же; а у нас вдалеке и бог простит.
— Гм! Так ты, друг мой Иван Кондратьич, давеча сказал, что у вас в губернии свои Аракчеевы есть. Значит, по-твоему, и Аракчеев взятки берет?
— Взяток не берет, зато с мужиков по три шкуры дерет.
— Гм! Не хочешь ли еще чайку-то?
— Нет. Я вот за пуляркой схожу. Спит мой жид, должно быть.
Накинул я шинель, шапки не взял: оставил ее на столе, возле старика. Вышел я из комнаты, сошел вниз.
— Где, говорю, смотритель?
— Здесь, ваше благородие, — отвечает он.
Смотрю: подле тележки стоит. А в тележку лошади за хожены отличнейшие.
— Что ж лошадей?
— Сейчас, ваше благородие. Позвольте только графа отправить.
— Какого графа?
— А графа Аракчеева.
— Где он?
— А чаем-то вас потчевал.
Поднимаюсь наверх тихохонько. Отворил дверь, стал у притолки. Руки по швам.
Аракчеев по-прежнему сидит на диване, погребец запирает. Взглянул на меня.
— Аль со смотрителем поговорил? — спрашивает.
Открыл я рот. Хвать, язык-от не ходит.
— Подь сюда, Иван Кондратьич!
И ноги не действуют.
Сам подошел ко мне, положил руку на плечо и гнусит:
— Вот тебе, молодой человек, урок. С незнакомыми языка не распускай. Говори подумавши. Чего хорошо не знаешь, про то судить не берись… Да и жидов в столицы не вози… Прощай, друг мой!.. Да заруби на носу: про что мы с тобой говорили, про то знают только ты да Аракчеев. Помни же это!
И ушел. Слышу, тележка покатила по шоссе. Тотчас крик да говор пошел на улице.
До самой смерти Аракчеева никому не смел я заикнуться про нашу встречу. Твердо помнил, что велено было на носу зарубить. С Аракчеевым шутить было нельзя. — Сибирь не своя деревня.
Раздался клубный звонок.
— Ну, прощайте, господа! звонок. Штрафа платить не намерен, — сказал Иван Кондратьич и ушел из клуба.[2]
Действительный рассказ покойного Ивана Кондратьича Рыбникова
Впервые напечатан в газете «Северная пчела» за 1862 г., № 30.