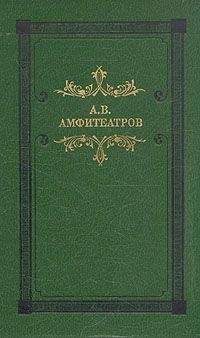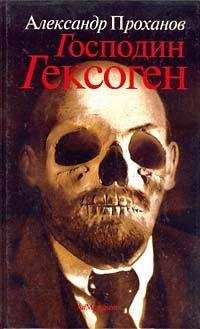Флореас долго блуждал во мраке по пустым равнинам и неглубоким оврагам. На небо взбежали тучи. И комета и звезды изменили Флореасу. Он шел, сам не зная куда идет: на север, на запад или на юг, так что если бы он и хотел вернуться к своим подмастерьям, то уже не мог бы. При том всякий раз, как только мысль о возвращении приходила в голову Флореаса, таинственный аккорд, непостижимо увлекший его во тьму пустыни, снова звучал — и с такою силою страсти и страдания, как будто все хрустальное небо разрушалось, со звоном рассыпая осколки на грудь матери-земли. Наконец, Флореас заметил вдали мерцание красной точки — далекого костра или окна в хижине.
«Я пойду на этот свет, — подумал Флореас, — я достаточно сделал, чтобы удовлетворить своему желанию; но тайна упорно не дается мне в руки, и я не в силах бороться с невозможным — должен возвратиться. Если это мои спутники, тем лучше; если нет, то авось эти люди не откажут мне в ночлеге и укажут дорогу в Пизу…»
Он шел на огонь до тех пор, пока нога его не оступилась с ровной почвы в провал. Путник едва успел откинуться назад, чтобы не сорваться в глубь пропасти. Он уселся на краю обрыва, едва не втянувшего его в свои недра, и стал ждать рассвета. Глядя пред собой, Флореас заметил, что огонек, на который он шел, как будто растет силою пламени… дробится на многие светящиеся точки… Флореас не мог дать себе отчета, что это за огни. Не может быть, чтобы Пиза! Но — если нет — куда же он попал? Видно было, что под ним в глубокой котловине лежит большой город… Выступили из мрака очертания горных вершин; восток побелел; огромная голубая звезда проплыла на горизонте и растаяла в потоке румяного света. Три широких белых луча, разбегаясь, как спицы колеса, высоко брызнули из гор в простор неба… Птицы пустыни тысячами голосов приветствовали утро; пестрые ящерицы проворно скользили по серым камням, в радостной жажде солнечного тепла.
Внизу, в долине, еще клубился туман. Но так как теперь Флореас знал, что под его белым покровом спит какое-то жилье, то решил спуститься. Он увидел тропинку-лестницу, вырубленную в скале… Давно никто не ходил по ней: растреснутые, иззубренные временем ступеньки поросли репейником и мареною; длинные ужи, шипя, уползали из-под ног Флореаса; он раздавил своим кованым сапогом не одну семью скорпионов.
Солнце встало над горами; туман растаял. Флореас одиноко стоял среди желтой песчаной лощины, сдавленной зелеными горами, и удивлялся: не только города, ни одной хижины не было поблизости… Ветер уныло качал высокие сорные травы… Песок блестел под солнцем… Серело ложе широкой, но совершенно высохшей от летнего зноя реки… Вот и все.
В досаде разочарования бродил Флореас по лощине. Он чувствовал себя страшно усталым: о возвращении нечего было и думать. Из шнурка, стягивавшего сборки его кафтана, он сделал пращу и, набрав гладких голышей, убил ими с дюжину мелких пташек пустыни. Обед его был обеспечен. Надо было найти воды. Она журчала неподалеку. Флореас пошел на звук… Ручей тек обильною волною из-под низко нависших ореховых кустов. Флореасу показалось странным слишком правильное ложе потока. Нагнувшись к воде, он увидал, что когда-то ручей был заключен в мраморные плиты: желтоватый гладкий камень еще проглядывал кое-где сквозь густой мох, темным бархатом облепившие дно и стенки источника. Раздвигая цепкие ветви орешника, Флореас пошел вверх по течению, и скоро добрался до обширной лесной поляны. На ней в беспорядке громоздились серые громадные камни. Флореас узнавал ступени, обломки карнизов; толстая колонна с отбитою капителью лежала поперек дороги… Посреди поляны возвышалась груда камней в полроста человеческого, похожая на очаг и на надгробный памятник. Осколки мраморного щебня валялись кругом. Ручей тек прямо из-под этой груды, которая, как и его русло, была когда-то обделана в мрамор. Еще виднелись кое-где следы обшивки и испещренной бурыми буквами, давно разрушенной и утратившей смысл надписи. Флореас прочитал.
Оружейник оглядел местность и подумал, что расположиться для обеда здесь, на поляне, между зелеными стенами узкого ущелья, приятнее, чем в песчаной пустыне, только что им оставленной. Он устроил костер на древнем памятнике-очаге и, нанизав убитых птиц на гибкий прут, изжарил их над огнем. Синий дым весело поднялся к небу зыбким столбом. Голодный Флореас наскоро съел свой скудный обед, запил водой из ручья… Его сморило сном.
Флореас проснулся впотьмах, поздним вечером. Ему очень не хотелось вставать с земли, но он сделал над собою усилие… И, вместе с тем как он поднимал свою еще отягченную сном голову, он видел, как поднимается из праха поверженная колонна. Он бросился к ней — на ней не оставалось ни мхов, ни ракушек, ни плесени: блестящий и гладкий столб красного порфира, гордо увенчанный беломраморным узором капители. Флореас осязал воскресшую колонну, чувствовал ее холод… Десятки таких же колонн с глухим рокотом выходили из-под земли, слагаясь в длинные портики. Дымный и грязный очаг превратился в великолепный жертвенник. Костер Флореаса разгорелся на нем с такою, силою, что розовое пламя, казалось, лизало своими острыми языками темное небо и зарево играло на далеких скалах. Цветочные гирлянды змеями взвивались, неведомо откуда, прицеплялись к колоннам и, чуть качаемые ветром, тепло и мягко обвевали Флореаса благоуханиями.
Молодой человек понял, что стоит у разгадки тайны, в которую вовлекли его прошлою ночью неведомые звуки. А они, как нарочно, снова задрожали в воздухе, но уже не рыдающие, как вчера, а весело торжествующие. Ущелье сверкало тысячами огней, гудело праздничным гулом тысячеголовой толпы. И голоса, и огни близились к храму. Пред изумленным Флореасом медленно проходили важные седобородые мужи в длинных белых одеждах, украшенные дубовыми венками, и становились рядом налево от пылающего жертвенника, а направо сбирались резвою толпою прекрасные полуобнаженные девы. Их тела были как молоко. Флореасу казалось, что они светятся и прозрачны, как туман, летающий в лунную ночь над водами Арно. Каждая потрясала дротиком или луком; у иных за плечами висели колчаны, полные стрел; многие — сверх коротких, едва закрывших колена туник были покрыты пестрыми шкурами зверей, неизвестных Флореасу. Нем и недвижим стоял оружейник в широком промежутке между рядами таинственных мужей и дев… Он начинал думать, что попал на шабаш бесов, но никогда не предположил бы он, что бесы могли быть так величавы и прекрасны.
Новые огни, новые голоса наполняли храм. Девять жен чудной красоты поднимались по мраморной лестнице, сплетаясь хороводом вокруг мощного юноши, который сиял, как солнце, и блеск, исходивший от его лица, затмевал блеск лампад храма. В руках юноши сверкала золотая лира, и со струн ее летели те самые звуки, что приманили Флореаса. И мужи в белых одеждах, и вооруженные девы упали в прах пред лицом юноши. Остался на ногах только Флореас, но его как будто никто не замечал в странном сборище, хотя стоял он ближе всех к жертвенному огню. Юноша гордо стал пред жертвенником и, радостно простирая руки к огню, воскликнул голосом, подобным удару грома:
— Проснись, сестра! Твое царство возвратилось.
Радостно зазвенели золотые струны его лиры, и он запел гимн, от которого потряслись скалы, зашатались деревья в ущелье и, как испуганные очи, замигали звезды на небе. Он пел, а вокруг него с криком неслись в пляске его прекрасные спутницы. Мужи в белых одеждах и вооруженные девы подхватили гимн. Схватившись за руки, они оплели жертвенник целым рядом хороводов. У Флореаса кружилась голова от мелькания пляски, звенело в ушах от пения, вопля и грома лиры. Он позабыл все молитвы, какие знал, рука его не хотела подняться для крестного знамения.
— Проснись, сестра! — звал юноша.
— Встань, царица! Проснись, богиня! — вторила толпа.
Вооруженные девы выхватывали из колчанов стрелы и проводили ими глубокие борозды на своих белоснежных челах. Кровь струями текла по их ланитам, они собирали ее в горсть и бросали капли в жертвенный огонь.
Пламя раздвоилось, как широко распахнувшийся полог, над жертвенником встало облако белого пара. Когда же оно поредело и тусклым свитком уплыло из храма к дальним горам, на жертвеннике, между двух стен огня, осталась женщина, мертвенно-бледная, с закрытыми глазами. Она была одета в такую же короткую тунику, как и все девы храма, так же имела лук в руках и колчан за плечами, но была прекраснее всех. Строгим холодом веяло от ее неподвижного лица. Мольбы, крики, песни и пляски росли, как буря на море. Пламя сверкало, напрягая свою мощь, чтобы согреть и разбудить мертвую красавицу. Синие жилки, точно по мрамору, побежали под ее тонкою кожей; грудь дрогнула; губы покраснели и зашевелились… и — с глубоким вздохом, будто сбросив с плеч тяжесть надгробного памятника, — она пробудилась от сна. Оглушительный вопль приветствовал ее… Все упали ниц; даже юноша с золотою лирою склонил свою прекрасную голову. Огонь на жертвеннике угас сам собою, а над челом красавицы вспыхнул яркий полумесяц. Он рос и заострял свои рога, и в свете его купалось тело богини, точно в расплавленном серебре. Она водила по толпе огромными черными глазами, мрачными, как сама ночь, под бархатным пухом длинных ресниц. Взгляд ее встретился с взглядом Флореаса, и оружейник почувствовал, что она смотрит ему прямо в душу и что не преклониться пред нею и не обожать ее может разве лишь тот, у кого вовсе не гнутся колена, у кого в сердце не осталось ни искры тепла, а в жилах — ни капли крови. Кто-то дал ему в руки стрелу, и он, в восторженном упоении, сделал то же, что раньше делали все вокруг: глубоко изранил ее острием свой лоб и, когда заструилась кровь, собрал капли в горсть и бросил к ногам богини с громким воплем: