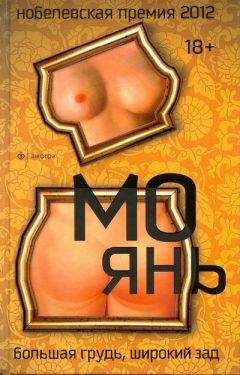Откуда ни возьмись - тятька. Шипом шипит:
- Подхватывай за ноги, а я в головах...
Тут Силашка и проснулся.
Слышит, и впрямь бабка в сенях голосит. Вскочил, глаза вытаращил - и спросонок глядит, глядит...
Рассветало. Окошки мутные, сумрачь, синь, холод, в трубе поет ветер, за стеной шипит вьюга, а дверь настежь расхлебячена - и в избу потихонечку всовывается да всовывается большая белая колодища...
В двери, тяжело дыша, застряли с этой колодой отец, сосед Тереха, мать, Оська Лодыжкин. Тут же, улыбаясь и гыкая, пыхтит и Никанорко. А чужой черный мужик в огромном обовьюженном тулупе, напружась у заднего конца колоды, щелкает языком и как в трубу гудит, дивясь на Никанорку:
- Эк, ты какой... Пошевеливайсь!
А Никанорко:
- Гы-гы-гы-ы!.. бык-те бодай...
Пыхтит, косопузится, подхватывая колоду не там, где надо, и разворачивает рот в такую улыбку, что под вороньей шапкой уж не лицо, а одна дикая дыра с зубами.
Колоду втащили и, шипуче перешептываясь, поставили середь избы на стол. Зажгли и прилепили к колоде тонкую желтую свечечку. Огонек заколыхался тоже желтый, живой, так к себе и притягивающий... Вся изба и мутный рассвет, и все лица, и все вздохи будто влипли в это хитрое, играющее желтое пятнышко. В нем было что-то старинное, страшное, но надобное. Даже Силашка сразу это понял и пальцы его сами собою остановились у губ и перестали брынькать.
Тереха принес псалтырь. Вошли еще люди. Встали все над колодой с одинаково строгими лицами, мрачно потупились, руки плетьми опустили, - молчат...
Одна только бабка Марья, пав головой и грудью на колоду, как над младенцем в люльке, лепечет ласковые старушечьи слова, торопливо ведет последний горестно-сладкий разговор.
Вьюга покидывает в окошки снегом, ветер шеберстит и ощупывает стены, шушукается, вздыхает, поскрипывает ставней. А в трубе будто потрясучий бездомный кобель засел: так и юзжит, так и взвизгивает, окаянный, хоть туда с кочергой лезь!
Чужой черный мужик устроил лошадь и вошел в избу. Щеря ядреные сахарные зубы, гребет пятерней обмерзлую бороду, топочет в пол валенцами и покрякивает, будто на банном полке.
В лад вздохам и молчанью, сосед Тереха раскрыл псалтырь и ногтем прижал то место, с которого читать. Вот он взметнул вверх бровями и даже рот раскрыл, чтоб начать, - как чужой мужик вдруг замахал для согреву руками и гулко захлопал ими по тулупу, ревуче крякнул, будто кипятком окатился, и густым, как смола голосом, не к месту громко, стал рассказывать:
- Метил вчерась к ночи утрафить. И дорога, заметь, ладная была. А посля как замело-замело-о-о... ух ты, батюшки мои! Проезжаю Гагино, сват и говорит: ночуй, куды тебя понесет? Не послухал, заметь... Ах ты, нечистая сила! Кружил-кружил всю ночь, хоть реви! Ну, вижу, пришло узло к гузну: ложись в ряд с Микитой и помирай. И заметь - на овины вынесло. Гляжу: - тут и есть! Ах ты, распропори ее, погоду самую!..
Взял из угла веник и давай охлестывать с валенцов снег. Тут Силашка и приметил, что валенцы у него выше колен, белые, с красными горошками, как у Сеньки Зуйка. Тятька пообещал ему такие же, да так и забыл, ужо надо мамку попросить.
А мужик махнул веником на колоду и, продолжая охлестывать, сказал:
- Ему всякая дорога теперь ладна: лежи-полеживай! Ну, а я, стало быть, как говорится, даже попужался. Живому, заметь, да здоровому погинуть, хе-хе... не хоцца!
Охлеставши валенцы, веник он бережно, как хрупкую посудину, прислонил в угол. Выпрямился, поднял черную бороду с играющими в ней светлыми капельками, надул красные щеки, со свистом фукнул в усы и, глядя на желтый огонек свечки, широким розмахом отогнул полу тулупа и вынул из штанов куколку в сарафане - нарядный пестрый кисет, удавленный за головку шнурком. Раскрутивши под горлышком шнурок, достал бумажку, аккуратно расправил ее, вздохнул и, мигая, двумя пальцами протянул отцу.
- От Петра Минеича, от хозяина... трешница на помин души, - сказал он и тут же ловко дернул за шнурок: кисет опять стал с головкой, как куколка, и юркнул в мужиковы штаны.
Сосед Тереха без промедления взметнул бровями вверх и бабьим голосом начал читать псалтырь, водя ногтем по надобному месту.
Люди завздыхали, вышептывая божественные слова. Кто-то снял с Никанорки шапку, он гыкнул и распялил рот, принимая шапку мохнатыми собачьими рукавицами.
А черный чужой мужик, скинувши тулуп, примерился глазом к печи и полез на ее, таща за собой и тулуп, чтоб укрыться.
III.
Завернули такие крутые морозы, что дым из труб в небо силком пропихивался. Стены стреляли, как из ружья. Зря не высунься, нос отхватит, либо ухо. Выйдешь на улицу, глянешь туда-сюда и ахнешь... Избы, деревья, Моськина меленка на воротах, колодезный журавль, скворешницы на шестах, веревка под окошком и заколелые синие тятькины портки на ней - все побелело, осеребрилось, мохнато закужлевело, и такая кругом тишь и сонь, что ресницы слипаются, а в ухе комар поет.
Крякали обозы, появляясь неизвестно откуда, и заворачивали к отцу Сеньки Зуйка пить чай. У Сенькина отца изба выше всех, над окнами борются деревянные львы, вставши на дыбки, а в чулане, где картинка про страшный суд над грешниками, есть пряники, сельди и вино в зеленых бутылях.
Покеркивая и взвизгивая, обозы трогались дальше, черной змеей уползали в белое поле, двигались в неизвестные места, а мужики в чапанах шли по бокам и, вея полами, криком вели разговор и тыкали в снег кнутиками.
Как раз была пора ловить снегирей, клестов и овсянок.
У Моськи для клестов была сделана ледяная горка. На эту горку надо было почаще бегать и мочиться, чтоб краснота была. Либо сыпать дресвой. Слетятся крючконосые клесты и начнуть играть: с горки они катом вниз, а там - силки... Моська налавливал их не мало. В праздники ощипывал, жарил и ел, хрустя косточками. А кривая Овдоха, мать его, вдова горючая, подпершись кулаком, сбоку жальливо глядела на него единственным глазом.
Тятька сделал Силашке тоже силки - эдакую дощечку с волосяными петельками из лошадьего хвоста. - И сказал:
- На, ставь на гумно и гляди: зараз попадет либо овсянка, либо снегирь! Сыпь проса. Просо они уважают.
Силашка поставил. Оповестил всех, что и у него силок, водил на гумно и показывал: какой и как стоит. То и дело бегал глядеть, - пусто. День прошел, - пусто. А на другой день еще издали увидел: попала, сидит... Замерло сердце, подкрадывается, глаз не спуская. Не две ли?.. две и есть... знамо две! Подбежал, глядит: - во всю дощечку кто-то круто нагадил.
Тихо пошел прочь. Глядел на остолбенелый дым из труб и все думал: кто?.. Сенька Зуек или Моська? Пожалуй, Моська... или Сенька? Сенька и есть, он такой... А может - оба?..
Быком вошел в избу.
Мать пряла, протягивая вжикающее веретено пяткой до-полу. Меж круглых колен у ней дремала кошка. Отец стругал ножом новые пальцы к старым граблям, - упирал деревяшку в грудь и сопел, как дед Никита.
У Силашки внутри будто еж ощетинился, в носу едко засвербило, в горле встала картошка, не продохнешь... Так прямо с рукавичками и шапкой, придавливая кошку, вдруг ткнулся мамке в колени - и в рыд! Кошка фырснула на печь, выпущенное из рук веретено поиграло на полу и закатилось мамке под подол.
- Што ты, Силань? - склонилась она теплой грудью на его затылок.
- Ребята-а...
- Дерутся?
- Не-е-е...
- Чево же?
- Они на мо-ой сило-ок...
- Ну?
Силашка сказал, что сделали на его силок. Услыша, тятька прыснул и загоготал, как дикий. Он уронил и нож и деревяшку, взбрыкнул ногами и протянулся вдоль лавки. Мотал головой, хлеща по глазам волосами, и гоготал. Хлопал себя по ляжкам и орал:
- Ай-яй! Ну, и чичка залетела!..
- Будет, охальник! - махала рукой мать. - Парня обидели, а он... Ишь раздирает жеребца нелегкая! - Пожалеть надо, а он...
- Ладно, Силантий, молчи! - сказал отец и отмахнул со лба волосы. Другой силок сделаю. Либо пичугу деревянную вырежу, на лапках стоять будет... хошь?
Мелькнула мысль сказать про белые валенцы с красными горошками, как у Зуйка, да вспомнился опять этот силок на гумне, - зарыдал еще пуще. От реву даже глаза вспухли. Мать уложила его на печь. Согнулся крендельком и уснул там, всхлипывая и во сне.
С этих пор он больше дома сидел. Дышал на серебряную изморозь окошек, надыхивал дырочку, глядел в нее: ничего не видно, а обозы кряхтят под самыми окошками, к Зуйкам заворачивают чай пить.
И вот пришли дни посветлее, с окошек потекло, завиднелась улица и колодезный журавль в небо. У Кубыкиной Дарьи оторванная ставня скособенилась еще больше, повисла над завалиной, а над крыльцом соседа Терехи прибавился еще один угляной крестик, - чтобы бесы в избу не проскочили.
Начало гулять в небе солнышко и стало можно зеркалом пускать зайчиков по стенам, даже за трубу, где тараканы, даже в подпечек, где седое помело лежит, а может, и домовой живет.
Обозы пропали. Дорога пошла в пятна, взбурела. Чирикая, на дорогу кучами слетались воробьи и расклевывали лошадиные култышки, а Лыско с лаем бросался на них, и воробьи летели к гумнам. Лыско же, сбочив кренделястый хвост, неспешно трясся опять к воротам.