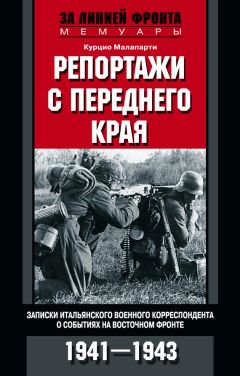Ознакомительная версия.
Решено было использовать все радиосредства и обычные рупоры. На радиомашине работает постоянная команда, на остальную технику кинули жребий. Конечно, при моем везении мне достался рупор "из скоросшивателя". Это придумал Ильф: рупор сделан из тонкого канцелярского картона, а не из скоросшивателя, но разницы особой нет. Скоросшиватель - смешнее. "Хорош был старик Варламов с рупором из скоросшивателя" - из дневника Ильфа.
Раздали нам листочки с программой передачи: минут на десять. А с рупором от силы минуты три проболтаешь, потом каюк. Я сказал об этом начальнику 7-го отделения ПО Мельхиору. "Боитесь за свою драгоценную жизнь?" Я что-то пробормотал. А если серьезно: почему я должен терять свою единственную жизнь из-за чиновничьей дури? Можно подумать, что Мельхиору не терпится заткнуть ж... амбразуру. Только во втором эшелоне на это мало шансов, а на передний край его не тянет...
Немцы отпустили мне больше трех минут. Видать, заинтересовались, а потом дали из минометов. Я лежал в ничьей земле, в старой неглубокой бомбовой воронке, метрах в пятнадцати от наших блиндажей, ветер дул в немецкую сторону. После двух четких выстрелов я решил, что это вилка - ни черта в этом не понимаю - и сейчас они накроют меня. Рядом была другая воронка, я заметил ее, когда полз сюда, хотя темнота - глаз выколи.
Я перекатился в эту воронку, но осколком меня задело по каске. После я нашел на металле вмятину и царапину. А в тот момент ничего не понял. Был короткий противный визг, и каска повернулась на голове.
Очухался в блиндаже. Ребята вытащили меня из воронки, когда немцы перестали стрелять.
- Чем вы их так раздрочили, товарищ лейтенант? - спросил сержант, как две капли воды похожий на Вадима Козина: то же смуглое цыганское лицо, спелые глаза, бачки.- Никак утихомириться не могли.
В моей тяжелой башке шевельнулось: о Сталинграде почему-то молчат. И я ничего не знал до вчерашнего дня, и никто в отделе не знал, кроме Мельхиора, а ведь мы политработники. Почему из победы делают тайну? Или просто очередная липа, обман, чтобы ошеломить противника? Нет, чувствуется, что это правда. У Черняховского, когда он заглянул к нам в отдел, сияли глаза и раздувались ноздри, охота скорее в драку, завидует сталинградцам. Что-то неладно у меня с башкой. Но не настолько, чтобы проболтаться. Я сказал сержанту, что травил обычные байки, портил фрицам нервы.
Мне дали выпить разведенного спирта. Меня вырвало. Жрать я тоже не мог - мутило. Потом сержант спросил:
- Что это вы все подмаргиваете, товарищ лейтенант? И головой кидаете, как конь?
До его слов я ничего такого за собой не замечал, а тут заметил, но мне это не мешало. Вместо ответа я запел:
- "И кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, чего он моргает!.."
Похоже, в отделе не знают, что со мной делать. Меня прислали на должность инструктора-литератора, но эта должность занята. Правит бал старший политрук Бровин, красивый, стройный, подтянутый парень, в котором Мельхиор души не чает. Он выпускник института иностранных языков и знает немецкий куда лучше меня. Голову даю на отсечение, что он был прислан сюда в качестве переводчика, но Мельхиор как-то переиграл его на инструктора-литератора. Это престижнее, и зарплата (денежное довольствие) на двести рублей выше. В ПУРе об этом перемещении не знали, поэтому и послали меня на вакантное место. Мое преимущество перед Бровиным: писатель, член СП, занимал ту же должность, но в Политуправлении фронта. Эфемерное преимущество. Мое "золотое перо" никому не нужно. Листовки тут выпускают редко, кустарным способом, очень локальные по содержанию. Бровин сочиняет их прямо по-немецки и сам размножает на ротаторе. Я этого не умею. Мельхиор долго не давал мне сделать листовку, боялся, что я забью Бровина. Но в конце концов рискнул и усадил меня в калошу. Брезгливо, двумя пальцами держа мою писанину, он ораторствовал на весь отдел: "Мы так не работаем. Бровин так не работает. Он обращается к нашим воронежским немцам, а не ко всей немецкой нации, и говорит на солдатском языке, а не на языке газетных передовиц. У вас набор высокопарных штампов, официальное пустословие. А у Бровина: "Милый Карл! К тебе обращается твой старый окопный друг Вилли Штрумф. Ты, наверное, думаешь, что я погиб. А я в плену, сижу и ем жирный мясной суп..." - слезы помешали Мельхиору закончить чтение.
Я знаю этот стиль вранья, могу и посолонее пустить соплю, но думал, что поражу их риторикой. Я бездарно промахнулся, и Мельхиор прав, играя моими костями.
Смешав меня с грязью, Мельхиор милостиво предложил мне на другой день должность переводчика. Это было унизительно. Я десять месяцев на фронте, и мало того, что не прибавил в звании, еще понижусь в должности на две ступени. Я не карьерист, но обидно. А крыть нечем. Я согласился.
Отработав так удачно диктором, я превратился в машинистку. Мельхиор спросил простодушно: "Вы, наверное, здорово печатаете на машинке?" Обрадованный, что хоть в чем-то могу показать свое умение, я сказал со скромной гордостью: "По-писательски: двумя пальцами, но быстро". И тут же прикусил язык. На кой ляд я снова высунулся со своим писательством, ведь это сразу напомнило Мельхиору, что Бровин узурпировал мое место. Он и правда притуманился, теплота ушла из голоса: "Мне надо, чтобы вы перепечатали протоколы опроса пленных. В четырех экземплярах. Страниц пятьдесят. За ночь справитесь?" "Думаю, что справлюсь. А почему не Ася?" Он жестко оборвал: "У Аси болит рука".
Это тоже была фаворитка Мельхиора: секретарь-машинистка нашего отдела, девятнадцатилетняя здоровенная, кровь с молоком, деваха. Она и в самом деле с утра жалостно кутала руку в шерстяной платок, что не мешало ей пить водку за обедом с Мельхиором, Бровиным и старшим инструктором Набойковым, а вечером обжиматься в сенях с рыжим замначем АХЧ Свербеевым.
Мое постоянное место - на кухне, вместе с диктором Костей и прикомандированным к отделу бойцом из выздоравливающих, хотя этот тюлень, по-моему, никогда ничем не болел, кроме лени. Мельхиор и его команда занимают чистую половину избы. Они там работают, гуляют и спят. У Мельхиора есть крошечный кабинет, выделенный из горницы, а у Аси - закуток, где она изредка, медленно и сбойчиво печатает на машинке.
Мой волховский ординарец Васька Шведов любил выражение "варфоломеевская ночь". Так называл он ночь любви, ночь газетного аврала, ночь кутежа с картами. У меня была варфоломеевская ночь. Я потянул короб не по силам. Особые хлопоты доставляли мне четыре экземпляра, хоть одну закладку я непременно путал. А хваленая моя скорость падала с каждым десятком страниц. От этого расходились нервы, я отплясывал пляску святого Витта на месте.
Под утро появился Мельхиор с красными кроличьими глазами, сильно на взводе и вручил мне плитку трофейного шоколада. Я поймал себя на мысли, что ненавижу его меньше, чем он того заслуживает. Эта толстая блядушка Ася разлагается за стенкой с начальством, а я, как-никак писатель, офицер политслужбы, тарабаню за нее на разболтанном "Ундервуде". И все-таки меня трогает преданность Мельхиора Бровину.
К девяти утра, усталый, обалделый, издерганный, я кончил эту никому не нужную работу и сдал ее Набойкову (Мельхиор спал), забрался на печь и уснул...
Я становлюсь необходим. Вчера Мельхиор дал мне новое боевое задание: съездить в Усмань за водкой. "Больше послать некого,- сказал он с тем проникающе добрым выражением, с каким говорит и делает гадости,- все при деле". Я мог бы спросить, при каком деле толстая Ася, повязавшая руку платком и пустившаяся в безудержный загул. По-моему, она обслуживает не только лидеров нашего отдела, но и агитпроп, отдел кадров и АХЧ. Если это считать делом, то она занята сверх головы. Да и вообще неудобно посылать за водкой девушку, к тому же с больной ручкой. Я мог бы спросить, при каком деле наш ленивый, разлопавшийся до того, что в штаны не влезает, выздоравливающий боец. Он топит по утрам печку и больше вообще ничего не делает, только жрет и курит. Но, очевидно, бойца нельзя посылать за водочным довольствием, да еще левым. Я мог бы спросить, чем занят аккуратный, всегда озабоченный, хмуроватый Набойков. Он начисто не знает немецкого языка, русского даром не расходует, особист он, что ли, тайный? Такого человека, конечно, за водкой не пошлешь. Я мог бы спросить, наконец, а что делает сам Мельхиор, кроме неустанного раздобывания в хозчасти ПО продуктов, спирта, бумаги, канцелярских принадлежностей, меховых жилетов, ватных штанов, ремней, настольных ламп и лампочек, но не пошлет же он самого себя за водкой. К сожалению, я не мог спросить, при каком деле находится Бровин, единственный реальный работник отдела: он то опрашивает пленных, то тачает листовки, то составляет бюллетени о моральном состоянии войск противника, то корпит над радиопередачами, материалы для которых присылает постоянно находящийся в частях инструктор Чижевский. Я не знаю, всегда ли так было, но сейчас Бровин работает за троих, что подчеркивает мою ненужность. Диктор Костя находится в командировке, на армейском жаргоне "убыл в часть".
Ознакомительная версия.