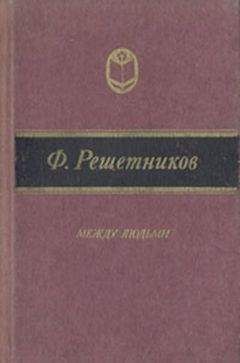Вот что говорил об этом назначении Никола Знаменский своим приятелям.
— Сеньке в та поры, кажись, было двадцать первой, али двадцать два года, а мне пошел десятнадцатый (то есть — 20-й), не помню… Сорвиголова был этот парнишко! Ну, вот, теперича, как есть помню… Сидим мы за столом на поминках; поп Олексей и бает: а кто, бает, из вас, теперича, робята, дьячком хочет сделаться?.. Ну, а нам, мне да брату, обоим хотелось дьячками быть, потому, сам знаешь, подати с дьячков не просят, жизнь легкая, а што насчет оранья — наше дело: заорем так-то ли што… Поп Олексей и бает: двоим негоже, одному нужно… Ну и велел ехать мне да брату в город, к самому благочинному, и грамотку обещал дать — это к благочинному, знаешь… Ну, поехали. Я да брат по лукошку яиц взяли, ругаться стали дорогой. Сенька бает: ты, бает, чупарый, тебя не сделают, а меня, бает, сделают, потому, у меня, бает, в лукошке два ста десятнадцать два яйца, а у тебя только два ста… Ну, пришли к благочинному, рыжий такой, просто разодет так, что и не бай! «Што? — спрашивает это нас… Так и так, баю; а я нужды нет, што Сенька был сорвиголова, а я все-таки был не в пример бойчае его. „Вот те, баю, грамотки от нашего попа Олексея, дьячком велел тебе меня сделать. За эго я тебе, батшко благочинный, лукошко яиц привез“. Смешно ему што-то стало. А Сенька как взглянет на меня по-коровьи и скажет благочинному „Врет Миколка. Я два ста десятнадцать два яйца привез, а он только два ста…“ Ладно, бает благочинный. Ну, и заставил он нас читать — прочитали гоже: петь заставил, а я по-церковному немного смыслил… Благочинный и бает: ты, бает, петь не умеешь, а тоже в дьячки суешься. Ну да, бает, ладно: будь дьячком в селе, а ты, бает брату, останься в городе, я тебя в собор поставлю. Я, бает, отпишу к архирею и скажу, колды тебе приезжать постригаться… Ладно, думаю, и диво меня взяло: за што это волосы стричь? Не дам. На што из-за этого с попом Олексеем дома подрался маленько… Пошли мы с Сенькой в кабак, Сенька дразнится: што, бает, я в город, а ты в село… Ладно, баю, в городе Медведев нет, а ты меня хоть зарежь, не пойду в город. Потом он стал калякать: я, бает, теперь старше тебя, начальство… За это слово я его больно хотел побить, да на радостях прощанье сотворил.
Город от нашего села был в пятидесяти верстах, и туда отец ездил часто с зверями, птицами и рыбой, которые он продавал одному купцу, или, проще, получал от купца муку, крупу, соль и порох с дробью. Дядя Семен, проживши в городе год, значительно пообтерся: носил суконный подрясник, сапоги, помахивал своей головой и косичками, за что отец стал называть его пучеглазым чертом. На другой год дядя женился на некрасивой причетниковской дочери и поселился в доме тестя, который, кроме жены, имел еще трех дочерей, ужасно глупых женщин, которых мой отец не мог терпеть и называл кикиморами. Особенно он ненавидел их за то, что они называли его неучем, сельским дьячком; а со стороны он слышал, что они называют его колдуном, потому что он будто бы посадил им по киле; у них было по грыже под подбородком — местная болезнь, происходящая там и теперь от нечистоты и влияния климата.
Церковь в Знаменском селе была открыта при моем дедушке с целью обращения язычников в христианство. Первый священник был молодой, ученый настолько, насколько в то давнишнее время можно было ожидать от человека; но народ не понимал его слов и в церковь не ходил, и он, промаявшись в селе кое-как год, уехал в другое место. После него священником был о. Алексей, при котором мой отец сделался дьячком; он был старик и скоро умер, а на место его приехал о. Василий Здвиженский из Рязанской губернии, где он был дьяконом на причетническом окладе. Он думал, что в нашем краю жить хорошо, но ошибся.
Вот что рассказывал про него мой отец.
— Первым делом поп Василий остановился со своей женой и дочерью Настькой у меня и стал думать, как бы ему дом выстроить, да большой, в пять горниц… Ну, по том и бает мне: поди-ко завтра; — кличь крестьян в церковь. „Зачем?“ — баю. А по то, бает, нужно… А сам бает не по-нашему, а инако, смешно, подковыривает как-то… Ну, утром, я и скликал всех. Пришли… Ладно. А поп обедню служит. Тожно вышел на амвон и бает што-то по бумажке. Поглядели на него мужики да бабы — и драло. Поп догадался. В другоредь велел мне двери запереть, да народу-то пришло помене, куды как мало, больше ребятенки… Вышел опять поп и стал по бумажке сказывать, изгиляется, и голос другой… Уж как это он изгилялся! и рукам и ногам, и головой… Ребятенки хохочут, а я им грожу; не способился; не одного за волосы отвозил. А кои постарше были, те пошли к дверям, а я не пущаю и баю: поп не велит пущать, ему кланяйтесь. Ну, да они меня боялись… Так поп ничего и не сделал. А с этих пор ни один мужик и ни одна баба не стали ходить в церковь. Только ребятенки и бегали по малости. Ну, поп-то был придурай тожно: пошто, бает, риза холщовая, надо серебряную — стал сбор с мужиков делать, а у тех и самих-то шиш. Надо, бает, старосту церковного — выбрали первого што сеть во всем мире плута… Ну, мужики и не залюбили ево, прятаться стали от него. Ну, да он и не больно-то ласков был: брезговал мною. Ну, стал поп жаловаться благочинному, да ничего не взял: потому благочинного нужно поблагодарить, а у попа шиш; попу мужики ничего не дают… Вот мой поп и рассердись на благочинного, и поезжай в губерню к архирею, а тот на него осердился: стричь, бает, больно буду… С тех пор поп славный стал и мужикам полюбился, стал со мной в лес ходить на промыслы, и попивали мы с ним пиво и водку, как ни один мужик не пивал… А то, когда найдет на моего попа благой стих, позовет меня да старосту, и пойдем служить обедню: я часы кое-как прочитаю, он эктению скажет через два в третий, Евангелие прочитает, „иже херувимы“ пропоем… Он придурай, што ли, был — не знаю: как я запою: „отложим попечение…“, он и плачет, и плачет — што есть, жалко его… Я и баю: чево ты нюни-то распустил. Вылезай, баю… Ладно, што людев-то не было, окромя старосты, да и тот едва мизюкает (дремлет…) А поп через три года, как в село приехал, половину-то обедни позабыл, а книжки одново раза подлецы черемисы, се всеми иконами, ризой, поповской рясой, коя в алтаре висела, и сосудами, растащили, и виновных не нашли…
Захотелось отцу жениться на поповской дочери. В это время поп жил уже в своем доме.
— Красивая была эта Настька в та поры, — рассказывал отец. — Ну, да это што… А то мне любо, што не скалила так зубы, как городские девки; девка, одно слово, работящая. Ну, вот я и пристал к попу Василью: отдай, баю, Настьку за меня! Поп и бает: ты и пальчика» што есть, ее не стоишь. Врешь, баю. Без меня, баю, ты бы кору глодал да пальчики облизывал. А я тебя стрелять научил. Отдай Настьку, не то плохо будет. — Я, бает, за попа отдам. Ну, а я в та поры баской был, и Настька со мной ласкова была…
Жена священника скоро заметила, что ласки ее дочери зашли уже очень далеко, и это привело ее в отчаяние, а священника в ярость… Священник как-то был хмелен, обрезал дочери волосы, прибил и выгнал ее; дочь убежала к отцу, а у того в это время был уже свой дом, заключавший в себе одну избу.
— Пошел я к попу, — говорил отец, — топор для страха взял. Прихожу к нему, он жену за косы теребит. Вот я как крикну: видишь это! и показал ему топор; у попа руки опустились и язык высунулся. А жена его выбежала на улку и кричит: «Ой, попа режут! ой, попа режут!» А я тем временем схватил попа и кричу: коли Настьку за меня не отдашь, косички твои обрублю… Поп испугался и кричит «Отдам! отдам!» — «Врешь?» — баю. — «Вот те Христос!» — бает. Ну, и начали же мы плясать с ним! Народ было собрался в избу, да мы его брагой угостили. А Настьку, как следует по божьему закону, я к отцу привел и наказал до свадьбы не обижать ее, а то, ей-богу, мол, косу обрублю и попу и попадье.
Мой отец долго вспоминал про свою свадьбу. — Уж так-то мы всем селом тешились — и не говори! В первый день восемь корчаг пива, да шесть корчаг браги, да полведра вина высосали… Всю посуду, какая у попа была, перебили… А уж што это сажей лицо ему мазали, и не говори!.. Пляски были — страсть! Уж нигде не было и не бывать такой свадьбе, какая была у Миколки Знаменского!..
Тетка Матрена вскоре после этой свадьбы вышла замуж за городского дьякона, а так как отец любил компанию, то он, сломав свою избу, пристроился к дому попа, так что из двух домов образовался, по внутреннему устройству, один дом, потому что из кухни попа были двери в избу отца.
Прошло три года после этого. У отца было уже два сына, Иван и я, Николай. После нас еще рождались дети, да умирали.
Отец очень хвалился крестинами:
— Уж я никогда так не рявкал, как на Ванькиных крестинах! Уж я эту «верую» лучше всех откатал, а пел так баско, что опосля того и придумать не мог: на какой это я манер пел толды? На што жена нездорова была, и та хихикала от радости и баяла: экой ты у меня петушок… А как у меня другой сын родился, поп и я хмельные больно были. Поп и дает ему свое имя… — Нет, баю, поп, давай мое! — Нет, бает, не хочу. — А ты, баю, своего парня наживай и давай ему свое имя, а этова парнишку я сам назову… Так поп ничего и не сделал со мной. Сперва было учнул сказывать: крещается раб божий Василий, да я крикнул: не Васька, а Колька! Колька в отца пойдет. Ну, значит, Колька у меня и сделался. После было хотел я это имя дать Ваньке, а Ванькино Кольке, да поп метрики услал к благочинному.