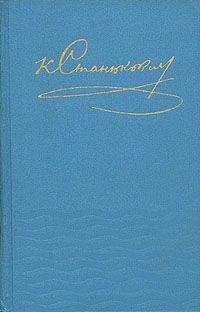В общем привлекательная женщина.
Большой букет свежих роз красовался в вазе на японском столике около качалки. Тут же бонбоньерка с конфетами из Монтре.
Валерий Николаевич открыл шагреневую шкатулку, в которой аккуратно были сложены перенумерованные письма жены, и взял верхнее, полученное накануне.
Голова слегка кружилась. Во всем исхудалом теле чувствовалась слабость.
III
Неволин прилег на кушетку и, с горевшими из глубоких впадин глазами, снова стал перечитывать четыре маленькие листка, исписанные крупным разгонистым почерком.
Словно бы чувствуя себя в чем-то виноватой, жена снова повторяла, почему не могла раньше приехать. Теперь маме лучше, перевод романа окончен, сдан в редакцию, гонорар получен, и она, не вводя мужа в новые долги, может выехать на следующий день и скоро будет ухаживать за больным. Валерий совсем поправится. Петербургский доктор, отправивший Валерия в Швейцарию, говорит то же, что и кларанский. Разумеется, ничего опасного нет. Надо только беречься и не торопиться на север.
Вслед за этими, казалось, спокойными и ласковыми строками, шли тревожно-нежные, но почерк как будто был более нервный и неровный. И Неволин жадно глотал:
«Я знаю, ты сердишься, мой добрый Валерий, что принуждена была откладывать до сих пор поездку. Мне тяжело, что поневоле обманывала твои ожидания… Подчас это невыносимо… О, как сожалею, что не поехала с тобой. Теперь до скорого свиданья… Непременно завтра поеду, и на курьерском…»
Письмо, по обыкновению, было подписано: «Твоя Леля».
«Верно, осталась на день в Берлине и пришлет телеграмму, что завтра!»
— И какая она хорошая! — вырвался восторженный шепот.
И, переполненный чувством, благодарный и умиленный, со слезами на глазах, он прильнул горячими и сухими губами к почтовому листу.
«О, как он боготворит ее!» — подумал Неволин и гордился, что так благоговейно и глубоко любит это «золотое сердце». По-настоящему любит, а не так, как многие его знакомые мужчины.
Он спрятал письмо в карман. В ту же минуту представил себе, что завтра будет здесь, около него, красивая, любимая, молодая женщина, и умиление к «золотому сердцу» исчезло. Вместо него было нетерпеливое, почти озлобленное желание влюбленного, и по праву, властного мужа.
Какая она цветущая, красивая…
А он?
Неволин сравнил себя.
И с каким чувством тоски, ожесточения и брезгливости посмотрел он на свои исхудалые, костлявые руки, бессильные и бескровные, с желтыми ногтями, — точно у мертвеца.
Он ощупал грудь — одни выдающиеся ребра. Ноги — тонки, как у ребенка, и только кости.
Как ни хотелось ему уверить себя, что поправляется, и что худоба не так уж ужасна, но он не мог не заметить, что страшно худеет и ослабел в последние две недели.
И все-таки еще не почувствовал и не сознал близости смерти. И не думал о ней.
Он так жадно хотел жить, так любил себя и все блага, которые вместе с большинством считал счастьем и, следовательно, смыслом и целью жизни, что упорно хотел верить и верил доктору, который скоротечную чахотку называл для успокоения больного катаром легких.
И чем беспощаднее и быстрее недуг разрушал еще недавно здоровое, сильное тело, тем упорнее надеялся Неволин сохранить его и пользоваться наслаждениями жизни и тем себялюбивее становился, занятый исключительно только собой и своей женой, которая давала ему счастье. А ко всему на свете стал равнодушен.
Валерий Николаевич раньше, когда был здоров, хотя и не отличался склонностью к вопросам непрактического характера, альтруизмом и цивическими добродетелями, все-таки, помимо забот о своем благополучии, интересовался кое-чем и отвлеченным, читал умные книги, и людские невзгоды были не чужды его сердцу. Родные, близкие и знакомые не казались безразличными. А теперь, цепляясь за жизнь, человек словно бы обнажился во всей наготе животного эгоизма. Все помыслы венца творения сосредоточивались на упорном самосохранении.
И Неволин строил планы будущего.
Он мечтал, как о чем-то несомненно сбыточном, что быстро поправится, когда около будет обворожительная жена. И он уж не станет волноваться и скучать в одиночестве. Они съездят в Женеву, побывают в горах, прокатятся на пароходе по Женевскому озеру. Конечно, покажет Шильон*. Поднимутся по железной дороге в Глион. В октябре поедут в Италию, побывают в Венеции, в Милане, Флоренции, Риме и Неаполе… И всегда вместе… А зимой вернутся в Петербург, в маленькую, уютную квартирку, настоящее гнездо, свитое умелой женской рукой.
Он думал о том, как здоровый, сильный и пополневший, придет в министерство, и директор департамента, обрадованный, что Неволин снова будет литературно писать записки и доклады безразлично о чем, — намекнет, что место начальника отделения скоро очистится, что сам министр знает о даровитом и усердном молодом человеке-чиновнике и приказал выдать ему к Новому году пятьсот рублей в возмещение расходов на излечение болезни… В шесть часов его встретит Леля, ласковая и умная, ровная и сдержанная, умелая хозяйка и очаровательная маленькая женщина, целомудренно-скромно не понимающая чар своих ласк…
Он думал, как взыскан судьбой, что встретил Лелю три года тому назад в Крыму и понял, что нашел ту… настоящую, единственную…
Мечты оборвались. Неволин заснул.
Колокол к обеду разбудил его.
Он нехотя поднялся. Освежил лицо водой, поправил галстук, пригладил бородку и спустился.
Слабый, он старался казаться молодцом на людях, когда вошел в столовую, где все жильцы пансиона уже сели за стол.
IV
В пансионе, кроме Неволина, был только один русский.
Все знали, что Неволин каждый день встречал жену и что сегодня она не приехала.
— Едва ли бедный русский дождется жены и завтра! — успела уже сообщить хозяйка многим жильцам, прибавив не без соболезнования о напрасной трате Неволина на букет в десять франков и на бонбоньерку с конфетами в двадцать.
Все с сочувствием и в то же время не без любопытного сдержанного удивления взглянули на безнадежно больного русского, не имевшего серьезно-убитого вида несчастного мужа, к которому не едет жена. Особенно приветливо ответив на общий поклон Неволина, продолжали прилично-бесшумно есть суп.
На двух-трех лицах типичных южан-французов мелькнули сдержанно-насмешливые улыбки над упорством заблуждения русского относительно женщин. Глупость доверчивого мужа, казалось, возмущала их еще больше, чем неприезд жены, о красоте которой давно всем рассказала госпожа Шварц, не раз любовавшаяся портретами молодой русской дамы на столе Неволина во время его отсутствия.
Дамы, напротив, были исключительно возмущены женой и порицали ее, когда не без удовольствия говорили об ожидании несчастного русского. Оно являлось событием в пансионе, давая интересную и пикантную тему для осторожно-тихих разговоров и предположений в комнатах и на прогулках.
Больной старый пастор-швед еще с большей, казалось, гордостью смотрел за обедом на хорошенькую свою молодую жену с льняными волосами и большими голубыми, словно бы недоумевающими глазами, которая ухаживала за ним с добросовестностью сестры милосердия, благоговейно внимала каждому его слову и нередко при публике целовала его большую белую и волосатую руку, словно бы в доказательство любви, верности и покорности образцовой жены.
Два англичанина, которые не без хладнокровного презрения отнеслись к этой «истории» русских супругов, все-таки воспользовались случаем, чтобы подержать пари на пятьдесят фунтов.
Приедет ли русская леди до конца недели или не приедет?
Пари должно считаться несостоявшимся, если жена явится только к похоронам джентльмена.
— Прибавлю десять фунтов!.. — процедил старый, плотный заводчик из Бирмингама с румяным, добродушным лицом, обращаясь к соседу, как только что Неволин вошел в столовую.
— All right![2] — невозмутимо ответил молодой человек, совсем еще юноша, в смокинге и цветном жилете, с подозрительными красными пятнами на своем красивом, нежном и белом безбородом лице, не поворачивая шеи, которую подпирали высокие и туго накрахмаленные воротники.
— Шансы на моей стороне, милорд!
— Еще пять дней! — упорно прошептал юноша.
— Боюсь только, как бы пари не состоялось.
Красавец-юноша промолвил себе под нос:
— Держу двадцать пять, что состоится. Он пять дней продержится. Молодчина!
— Идет…
Чопорная, строгая, полная англичанка лет под сорок, с ослепительно белыми «лошадиными» зубами выдающейся челюсти, затянутая до того, что грудь, казалось, разорвет ажурную ткань лифа, — с взбитыми кудряшками, прикрывающими лоб, и с выхоленными крупными руками, унизанными блестящими кольцами, корректно подавила громкий вздох при виде Неволина.