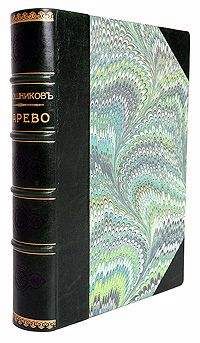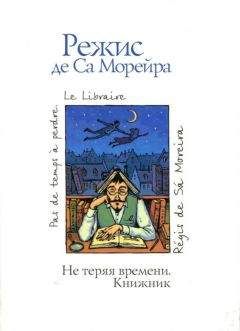— Вотъ оцѣните, сказалъ онъ Русанову, а тотчасъ же прибавилъ: — пятьдесятъ рублей далъ.
— Помилуйте, за мельницу-то?
— Да вы посмотрите, James, Manchester настоящій! она муку мелетъ…
И Авениръ принялся высчитывать, сколько она мелетъ и сколько мелетъ вѣтрякъ, что стоитъ ремонтъ его и во сколько обойдутся рабочіе чтобы вертѣть рукоятку: вышло почти вдвое дешевле.
Озадаченный потокомъ политической экономіи, Русановъ не нашелся возразить.
"Когда бъ онъ зналъ, какъ пламенно, какъ нѣжно", выводила Юленька.
Кончили тѣмъ, что четверо усѣлись въ ералашъ по пятачку сотня, а политико-экономъ принялся читать Биржевыя Вѣдомости, посмѣиваясь надъ ренонсами Русанова. Анна Михайловна спорила и горячилась, когда ей случалось дѣлать ошибку; Ишимовъ отпускалъ доморощенные каламбуры насчетъ керовыхъ и пиковыхъ дамъ.
Въ десять часовъ Грицько съ Горпиной подали настоящій деревенскій ужинъ. Тутъ былъ супъ съ баклажанами, фаршъ изъ гуся, караси въ сметанѣ, чиненыя тыквы, вареные раки, вареники и туземный кавунъ. Московскаго студента сначала покоробило при видѣ несмѣтнаго количества "стравы"; но, самъ того не замѣчая, онъ отдалъ вполнѣ заслуженную честь каждому блюду, не отсталъ даже отъ Авенира, который выказалъ вовсе не экономическія способности своего желудка. Инна тоже вышла къ ужину; впрочемъ она болѣе занималась плодами земными. По окончаніи трапезы, Авениръ и Юленька подходили къ ручкѣ Анны Михайловны, говоря каждый по своему: merci, maman; thank you, my mother.
— Что это за цвѣтокъ нашла вы, Инна Николаевна? полюбопытствовалъ Ишимовъ.
— Cypripaedium.
— И не слыхивала, отозвалась Анна Михайловна.
— Пустоцвѣтъ, объяснила Инна.
— Скажите! На что жь онъ годенъ?
— Да на на что…
— А растетъ, удивлялся Ишимовъ. — Подлинно непостижимы цѣли Творца!
— Да, ужь подлинно, что непостижимы, сказала Инна. — Покойной ночи, господа! — И пошла къ себѣ.
Что-то сладкое, спокойное охватило Русанова, когда онъ выѣхалъ въ поле. Наступала свѣтлая, сыроватая ночь; душистые пары волновались по лугамъ, даль стушевывалась въ темномъ небѣ, а надъ головой искрились и переливались звѣздные узоры. Шаги лошади звучно отдавались по полю, перепела били взапуски, кузнечики трещали безъ умолку, съ болота подавали голосъ лягушки, съ улицы неслась пѣсни, скрипка и дружный топотъ башмаковъ. Русановъ придержалъ лошадь, и сталъ прислушиваться; десятка два деревенскихъ пѣвцовъ сливались въ хорѣ, напоминая звуки органа, задушевно отхватывали припѣвъ, затихали, и вдругъ, какъ будто изъ середины ихъ, выплывалъ одинокій, чистый голосъ женщины, затягивая новую строфу… Русановъ пустилъ лошадь, хоръ все глуше и глуше подхватывалъ припѣвы, а соло, казалось, ничуть не теряло силы. "Вотъ какъ глохнутъ артисты-то на Руси, подумалъ Русановъ, да впрочемъ имъ и горюшка мало. Легко имъ живется, не то что тамъ… И Анна Михайловна!… Вѣдь есть же время отъ скуки играть на двѣ руки въ пьяницы… И совершенно убѣждена, что правою рукой управляетъ ангелъ-хранитель, а когда лѣвая начинаетъ забирать взятки, то это сатана одолѣваетъ… И Ишимовъ — непостижимый… А какъ время летитъ у нихъ! Или ужь это домомъ такъ бываетъ, что и молчать-то у нихъ весело? Не запановать ли ужь и мнѣ?"
Онъ бросилъ вожжи, и лошадь пошла сама по знакомой тропинкѣ межь двухъ полосъ серебрившейся рѣки.
Дядя Владиміра Ивановича въ 1849 году вышелъ въ отставку майоромъ и поселился въ маленькомъ наслѣдственномъ хуторкѣ, нераздѣльномъ съ братомъ; этотъ жилъ постоянно въ Москвѣ, въ качествѣ вольнопрактикующаго медика. Одна изъ сосѣднихъ панночекъ не на шутку затронула военное сердце, старый воинъ былъ уже обрученъ, какъ вдругъ его невѣста простудилась на балу, заболѣла, захирѣла и умерла. Майоръ остался старымъ холостякомъ. Нажитая грусть съ природно-веселымъ нравомъ сдѣлали его душою окольнаго общества. Гдѣ бы ни собрались помѣщики, чуялось, что чего-то нѣтъ, если старый майоръ не сидѣлъ въ углу, съ своимъ черешневымъ чубукомъ и пенковою трубочкой. За то если онъ сидѣлъ тамъ, все толпилось вокругъ него; старое и малое хохотало, а онъ, пуская мелкими кольцами дымъ, разсказывалъ имъ, какъ онъ выхватилъ разъ своего товарища изъ-подъ коней венгерскихъ гусаръ, взвалилъ на спину и бѣжалъ, бѣжалъ до самаго перевязочнаго пункта, задавая ему всю дорогу разные вопросы и удивляясь его молчаливости. Только тутъ открылась причина: у пріятеля была дырочка на груди противъ самаго сердца; докторъ не счелъ нужнымъ и пулю вынимать. Разсказывалъ майоръ, какъ и самъ онъ былъ равенъ въ такую часть тѣла, за которую, по собственному сознанію его, не подобало бы награждать знаками отличія.
— А нуте, майоръ, какъ вы въ Турка не попали?
Въ сотый разъ принимался майоръ за этотъ необыкновенный случай, и немногихъ анекдотовъ вполнѣ хватало на увеселеніе неприхотливой компаніи. Такъ шли годы за годами, а старый майоръ, казалось, заколдовалъ себя отъ нападокъ времени. На стриженой головѣ его не убавилось ни одного изъ сѣдыхъ волосъ, на красивомъ лицѣ не прибавилось на одной морщины, и сизые усы оттѣняли ту же самую полугрустную улыбку, какъ вдругъ онъ получилъ письмо изъ Москвы. Племянникъ извѣщалъ, что отецъ его, а его, майора, братъ, волею Божьею скончался, а самъ онъ кончаетъ курсъ и думаетъ устраиваться въ Москвѣ. Майоръ, прочитавъ письмо, задумался, выкурилъ три трубки залпомъ, и цѣлый день проходилъ будто самъ не свои. Потомъ съ военною аккуратностью сталъ отвѣчать на письмо.
"Конечно, писалъ майоръ, кандидату университета открыты всѣ пути въ мірѣ и блескъ столицъ; но инаша сторонка не клиномъ сошлась. Найдутся добрые люди, помогутъ просвѣщенному человѣку устроить свою судьбу. Нашъ хуторокъ будетъ со временемъ твоею собственностью, и самъ я не прочь имѣть въ тебѣ утѣшеніе на старости лѣтъ."
Во всякомъ случаѣ, старикъ звалъ племянника погостить лѣто въ деревнѣ и отдохнуть отъ многотрудныхъ ученыхъ занятій. Онъ запечаталъ письмо старинною печатью съ изображеніемъ глаза въ трехугольникѣ и надписью вокругъ: "сія есть моя надежда", самъ отвезъ его на почту и стадъ поджидать гостя.
Владиміръ Ивановичъ три недѣли уже проживалъ на хуторѣ. Сперва онъ подтрунивалъ надъ выбѣленными стѣнами, къ которымъ нельзя было прислониться, надъ дубовыми съ потрескавшеюся кожей креслами, что обѣими руками не поднимешь, надъ обѣденнымъ столомъ, который составлялся изъ двухъ ломберныхъ съ ложбинками для марокъ. Когда они покрывались скатертью, и непосвященный ставилъ стаканъ на ложбинку, тотъ немедленно опрокидывался и обдавалъ профана содержимымъ. Существовало преданіе, что нѣкогда кирасирскій офицеръ вызывалъ майора на поединокъ, обливъ такимъ образомъ свои лосинные рейтузы краснымъ виномъ; чѣмъ кончилось сіе достопамятное происшествіе, слухи не доходятъ.
Мало по малу Владиміръ Ивановичъ приглядѣлся къ домашнему обиходу, потомъ полюбилъ его.
Подъѣхавъ къ дому, онъ киулъ вожжи Іоськѣ, и постучался въ свѣтившееся окно. Іоська принялъ бразды со всею неповоротливостью Малоросса за сорокъ лѣтъ, и ведя лошадь въ конюшню зафилософствовалъ на свой ладъ.
— Ще сего не було… о півночи до дому не іидуть… Хиба в васъ нема що повечерять, — и, пнувъ не распряженную лошадь въ стойло, завалился на боковую.
— Ну, дяденька, я рѣшительно остаюсь, говорилъ Русановъ на другой день, кончая съ майоромъ утренній чай.
— Вотъ спасибо, дружочекъ! — И майоръ обнялъ племянника, широко распахнувъ полы бухарскаго халата съ разводами.
— Да, дяденька, и знаете что? очень не дурно бы попасть въ мировые посредники.
Дядя прочилъ племянника во что-то до того высокое, что и самому себѣ не могъ отдать отчета, во что именно, а потому такъ и обрадовался.
— Какъ, ты дѣлаешь намъ честь быть нашимъ посредникомъ? Ну, молодецъ, Володя! Позволь же выразить тебѣ….
И бухарскій халатъ опять соткровенничалъ.
— Да захочетъ ли дворянство?
— Сосѣди-то? Помилуй, да они за счастіе почтутъ!…
— Въ такомъ случаѣ надо съѣздить къ нимъ съ визитомъ…
— Что жь! Вотъ послѣ чаю и поѣзжай! Вели заложитъ пѣгашку въ дрожки, да и съ Богомъ…
— Вы мнѣ скажите, кто тутъ повліятельнѣй!…
— Какихъ тебѣ вліятельныхъ? Такъ кругомъ хутора по ранжиру и валяй. Тутъ всѣ вліятельные…
— Ну, видно я въ самомъ дѣлѣ попалъ въ Эльдорадо, сказалъ Русановъ, улыбаясь.
— А ты, Володичка, поменьше мудреныхъ словъ то говори; у насъ этого не долюбливаютъ….
И майоръ самъ пошелъ наставлять Іоську. Сей деревенскій философъ занималъ почетную должность возницы и глубоко пропитанъ былъ чувствомъ собственнаго достоинства. "Не моі дѣло", важно обрѣзывалъ онъ бабу, когда та просила его принести воды или о чемъ подобномъ: "моі дѣло съ паномъ іиздить, а не зъ жінками возиться." На кликъ барина онъ явился въ утреннемъ неглиже съ нечесаною бородой.