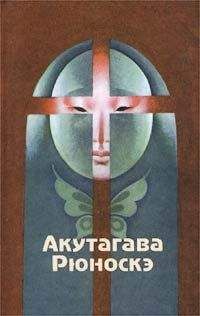Они с бабушкой бродят по заброшенному кладбищу. Непонятно, как они здесь оказались. Наверно, гуляли и как-то загуляли сюда. И кажется, не в первый уже раз они здесь. Кладбище очень старое, оно почти уже не кладбище, а неровный, бугристый пустырь. Каждый бугор мог оказаться могилой, он это знал. Много где оград уже не было, а которые были, уже походили на плохонький металлолом. Покосившиеся так и этак кресты. В основном железные, черные, имен уже не прочитать. Изогнутые черные железяки попадаются под ногами. Он знал, что они были когда-то частью креста. Бессознательный ужас внушала ему одна могила: ограда почти цела, но креста нет, может, остался холмик, но туда он не заглядывал; и огромное старое разросшееся дерево растет из этой ограды, с обилием ветвей, вернее, уже стволов на главном стволе, с буйной, массивной кроной. Когда-то на могилу посадили деревце, но вот могилы уже нет, а деревце росло, разрасталось и превратилось в огромное деревище, продолжающее безобразно, безбожно разрастаться, как дикое мясо. Что-то в этом было ужасное для него. "Бабушка, а сейчас здесь хоронят кого-нибудь?" - спрашивал он. "Да нет, уже не хоронят, - отвечала бабушка. - А может, кто знает, иногда и хоронят". Он оглядывался на это кладбище-пустырь. Казалось, оно расположено вне всего. Он не помнил дороги сюда, не помнил дороги назад. Или ты здесь, или во всем остальном мире. И почему-то смутно боялся, что бабушка вот-вот куда-то исчезнет, оставив его одного. И она становилась задумчива, она была как будто окутана какой-то дымкой. Они разбредались по кладбищу, но то и дело что-то толкало его резко оглянуться, проверить, на месте ли она. В начинающихся сумерках он не сразу видел ее. Успокаивался и опять бродил.
Вообще, Павлушу почему-то тянуло к кладбищам. Нельзя было сказать, что он только и делал, что шатался по кладбищам, но он порой захаживал туда. Он как будто инспектировал могилы; с пристрастием вглядывался в каждую, изучал лицо умершего - пытался прочесть его жизнь? обстоятельства смерти? но главное годы жизни. Он откуда-то усвоил, что человек должен прожить по крайней мере семьдесят лет, и если, быстро вычтя две даты, он получал число большее семидесяти, то это приносило ему своего рода удовлетворение, если меньше неудовлетворенность, какое-то свербение в душе. Жили в основном лет по пятьдесят с небольшим. Женщины, кажется, подольше - под шестьдесят. В общем, дела обстояли неважно. Но были и те, кто жил по тридцать восемь, по двадцать четыре, по семнадцать, по пять. Он задерживался у таких могил. И продолжительность жизни пересчитывал по два-три раза, но уже с первого получал правильную - считал он хорошо. "Любимому Сереже от родителей". Непонятно, зачем он так долго стоял перед этой могилой, получив небольшую цифру шесть, разглядывая эту надпись, разглядывая детскую лопоухую фотографию, цветы, принесенные к могиле, не успевшие еще увясть. Он хотел вместить в себя всю чудовищность произошедшего. Вернее, одна его половина хотела, другая этому противилась. И он тупо стоял, не мог как следует, с головой, окунуться в ужас, но не мог и уйти. Как это произошло?! Кто допустил?! Что, неужели это не могло тогда кончиться по-другому, не так, как кончилось - с этим "Любимому Сереже от родителей", с этой фотографией, в которой он в совершенно обычной, домашней рубашке, с этой оградой, с этой каменной тумбой, с этими дурацкими цветами? Что же все-таки произошло, почему? Он должен разобраться, он не может такое так просто оставить!
Он что, хотел извлечь какой-то урок? Чтобы это больше никогда не повторилось? Да, ему надо было понять, отчего так происходит, подумать как следует, и сделать так, чтобы этого больше никогда не происходило. А таких могил было много. Ирочка Жукова, семнадцать лет. Из больших девчонок, в жизни бы он считал ее большой. Но здесь она была для него девчонкой.
Еще было много надписей "Трагически погиб". Тоже остановка. Тоже попытка отгадать, угадать. Какая-то очередная жестокость, безобразие, бесчеловечность.
Наверно, уже тогда это вошло в него:
Смерти нет. Есть убийство. И каждый человек - "трагически погиб".
Он как будто чувствовал себя посланником всех их, безвозвратно, бесследно, бессмысленно загубленных. Он послан сюда от них, чтобы сказать за них за всех какое-то слово, то, которое они сказать не смогли.
Один раз он встретил такую надпись: "Прохожий астановись. У души моей помолись. Бог бережет мой прах. Я дома, ты в гостях". Его поразило это "астановись". Сколько там было народу? Что, ни один не знал, как пишется это слово? И он как будто угадывал в этом "астановись", в этих истеричных, безграмотных виршах какой-то тайный, глубокий, бесстыжий смысл; ужас смерти и безобразие, бесстыжесть были как-то связаны между собой.
Еще он видел имя "Пётор". Это его уже позабавило.
А вот что его чуть ли не рассмешило: "Танцуйте пойте что хотите, но берегите нашу Родину, пылинки сдувайте с нашей родной Советской земли"...
У него часто случались периоды беспричинной хандры. Не всегда, впрочем, беспричинной, часто хандра была вызвана мыслями о неизбежности смерти. Но часто бывало, что и смерть была вроде ни при чем. Периоды длились несколько дней, иногда недель. Потом постепенно, незаметно проходили.
Он ненавидел болезни. Страстно, неистово. Он ненавидел болезни, как ненавидят людей.
Когда Павлуша заканчивал пятый класс, он уже считал себя очень большим, почти взрослым. Вернее, он знал, что для кое-чего маловат - например, чтобы ходить на работу или иметь семью, но это было не главное, в главном же - в понимании он уверенно считал себя умнее всех взрослых. Привычно побаивался их, точнее, признавал их "социальное" превосходство, но поглядывал снисходительно. Он уже прилично знал Толстого, Чехова, Тургенева. Его, разумеется, потрясла "Смерть Ивана Ильича". "Палата No 6"... тоже потрясла. Вот Достоевского он оценил гораздо позднее. Зато уж оценил так оценил.
Он, однако, не отказывался и от Конан Дойла. Видимо, это все еще было для него не зазорно. Отчего и не доставить себе маленькое, да и не такое уж маленькое удовольствие, если это еще вполне позволительно. Вероятно, он рассуждал именно так, незаметно для самого себя. Павлуша был развитым мальчиком, даже отчасти вундеркиндом, и, общаясь со взрослыми, бывал слегка нахален. Впрочем, очень редко, ведь его хорошо воспитывали. На родительских собраниях его неизменно хвалили. Со сверстниками у него тоже были прекрасные отношения. В их мальчишеском мире очень многое, если даже не главное, определялось тем, кто кому "даст". В их классе Павлуше давал только один здоровила, - еще с двумя он был "наравне". Возможно, в классе были и другие мнения, но он держался исходя из этого, - что давалось ему без малейшего труда, - а значит, и вправду дела обстояли именно так. Одним из первых в классе он был и по подтягиванию, и по отжиманию, и по бегу. Правда, в гимнастических упражнениях, например, он был чудовищно, абсолютно беспомощен. Но в целом Павлуша был почти "гармонической личностью". И он не мог не замечать, что в классе он по математике первый, по драке, по физкультуре один из первых. Его настоящее было прекрасно, а будущее - конечно же, еще прекраснее. Свое будущее Павлуша связывал с математикой. Он будет Ученым. Это как-то само собой подразумевалось.
Дни начинались ясно и ясно заканчивались. Павлуша гордился собой. А страхи смерти, хандра как-то затерялись.
Наверно, то лето, после пятого класса, было пиком Павлушиного счастья. Только счастья этого было - несколько дней.
У него возник сердечный приступ. Ночь, страх, едкие капли, сердце, которое сейчас, кажется, выскочит. Родители, конечно, были всю ночь рядом. Это было и лучше, но, с другой стороны, и хуже - они здесь, рядом с ним, но ничем не могут ему помочь. Можно дотронуться до них, но каждый наглухо, навсегда задраен в свой скафандр; это будет только прикосновением скафандров. Наверно, в первый раз Павлуша ясно понял это. И еще: родители не могут ему помочь - в первый раз.
И первый день, вернее уже вечер в больнице: он лежит, сильно дышит через рот, и глаза у него закрыты от солнца, залившего своим прощальным, но все никак не уходящим светом всю палату - ночей тогда почти не было, и слезы текут из закрытых глаз, и не жаль уже запоротых летних каникул, и ему делают срочную электрокардиограмму, ЭКГ, и белые халаты тычутся вокруг, и металлически, мерно скрипит этот их аппарат, и эта их экэгэшная лента все ползет... Ползет... Ползет... И неизвестно даже, чего было больше, страха или отчаяния; отчаяния от того, что жизнь, такая прекрасная, могла так с ним поступить, так предать его. Если жизнь может быть и такой - стоит ли жить вообще?
Просто плохо было днем, кошмарно вечером. Тоска, отчаяние, боль, страх, что там еще? - сгущались к вечеру. И все время резало глаза, как будто кто-то беспрерывно чистил в палате лук. Он лежал, цепенея, на кровати, смотрел в окно. Светлым-светло. Солнце, никак не могущее провалиться, смотрело на него раззявленным догом. Большое, красное.