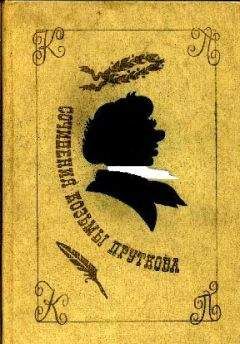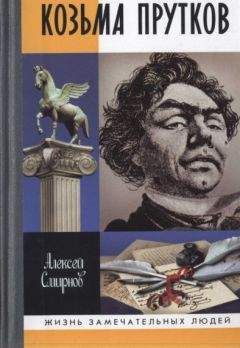К началу нашего века Пруткова воспринимают уже в значительно смягченном виде: как забавника, комичного нелепостью своих претензий. Забываются пародируемые образцы, та конкретная злоба дня, на которую откликались многие творения Пруткова, и та едкость, с которой они язвили какое-нибудь явление или личность. На какое-то время Прутков, казалось, стал покладистее — и пошлее. Венцом подобного восприятия является тихое празднование в 1913 году пятидесятилетия кончины Пруткова с юбилейным номером журнала «Сатирикон» во главе — этакое благонамеренно-либеральное торжество дарованной «свободы слова», когда упоминание чего-либо вроде: «камергер редко наслаждается природой»,— кажется прямо-таки головокружительной смелостью.
После революции читателей Пруткова стало больше.
В поисках того, чем же именно интересны и теперь прутковские пародии на полузабытых подражателей античным или ложноромантическим темам, эти прописи казенной мудрости, эти невероятные нелепицы, именуемые «пьесами», и т.п.— в поисках всего этого наше литературоведение не сразу попало на верный путь: нелегко объяснить живучесть творений Пруткова, их созвучность столь разным эпохам, как середина XIX века и середина XX века.
Итак, сатира на многоликую николаевскую реакцию — и отсюда на всякую идейную реакционность вообще, духовную нищету; сатира на николаевскую государственность — и отсюда на бюрократизм вообще и т.д. Смешная пародия, меткая сатира, саморазоблачение «пошлости» и «тупости»... Во всех этих выводах много верного. И все же не весь Прутков, не вся правда о нем умещается в них. Остается не совсем понятным: что нам теперь, читающим стихотворения «Философ в бане», или «Письмо из Коринфа», или диалог «Спор древних греческих философов», до того, что когда-то хотелось осадить поэта Щербину, который назойливо (хотя подчас и очень мило) воспевал красоту в условно-античном вкусе? И может ли иметь какой-либо живой интерес то обстоятельство, что так называемая «драматическая пословица» «Блонды» является ответом журналисту, уколовшему аристократов Жемчужниковых подозрением в незнании светского тона? И, уж, наверное, не только высмеиванием взаимоотношений тогдашнего полковника и священника интересны для нас «Военные афоризмы».
В любых разговорах о Пруткове чаще всего отмечается его непроходимая «тупость», от которой становится «смешно». Такой штамп повторяется почти механически, как нечто само собою разумеющееся. А так ли это, если вдуматься? Что до «смешного», то, на наш теперешний взгляд, многое у Пруткова совсем не вызывает настоящего смеха. Представления о смешном тоже меняются. Но даже во времена Пруткова не всем читателям Прутков казался смешным. Пародийный характер его творчества раскусили быстро (благо объекты пародий были тогда хорошо известны), а сами пародии многих не посмешили.
А насчет «тупости» недоумений должно быть еще больше. Б. Бухштаб, применивший для обозначения этого свойства изысканное сочетание «бесконечная ограниченность», находит, например, «гениальным» по своей «тупости» стихотворение о юнкере Шмидте («Вянет лист...») [6]. Раньше оно называлось «Из Гейне» и скорее всего, пародирует русских подражателей Гейне. Подражатели давно забыты, а пародия живет безотносительно к ним и к самому Гейне. Что-то подкупает в ней своей трогательностью, полнейшей незащищенностью от обличений со стороны критики, от насмешек. Оттого ли, что написана она А. Толстым еще до полной обрисовки мифического директора «Палатки», но только кажется, что сочинил это стихотворение не надменный петербургский чиновник с изжелта-коричневым лицом, а какой-нибудь уездный фельдшер или почтальон, умирающий от скуки и уныло мечтающий о неведомой «красивой» жизни. При одной превосходной рифме («лето» — «пистолета») и мастерской чеканке ритма, выдающих большого поэта, стихотворение, в общем, стилизовано под беспомощные любительские «стишки», которые тайно «пописывают» между делом. Самый неуклюжий перенос ударения ради сохранения метра («честное») явно указывает на насмешку.
И вместе с тем тут же, в тех же строках есть и иная интонация. Если человеку, утратившему вкус к жизни, находящемуся в состоянии подавленности, скажут: «Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится!» — то это будет шуткой, но ведь ободряющей шуткой! Впрочем, в иных обстоятельствах, тоже желая ободрить, но пожестче, можно сказать и иначе: кажется, наш юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться? Или что-либо подобное. И такой смысл в стихотворении тоже потенциально заключен.
Еще пример — коротенькое стихотворение «Перед морем житейским». В позднейшем примечании, сопровождающем его публикацию, авторы, указывают на «смущение» и даже на «отчаяние», которые овладели директором Прутковым при известии о готовящихся реформах и привели его к созданию этого восьмистишия. Недаром казенный поэт хочет покончить с собой. Но предположим, что ничего не знаем о примечании. Прочтем:
Да ведь это (кроме, быть может, «дай-ка») просто начало какой-нибудь неизвестной народной песни — задушевной, печальной. Во второй же половине — уже намек на нелепость (вдруг сравнение с кузнечиком). Печаль дополняется иронией, но не снимается ею, остается, только чуть «подправляется», и настроение пустенького вроде бы стиха оказывается сложнее, чем просто разоблачение отчаявшегося ретрограда.
Кстати, строка о почти вечном стоянии на камне («Все стою...») вызывает в памяти другое, более сильное и популярное стихотворение, в котором есть знаменитая строчка о сидении на камне барона фон Гринвальдуса («Немецкая баллада»). Здесь не исключена возможность и прямой пародии на жанр рыцарской баллады. Под внешне литературной пародией — подтрунивание над, казалось бы, безусловно, положительным качеством — верностью. Иронический взгляд и до нее добрался,— он находит опасность в преувеличении даже такого свойства: окаменелое сидение на камне «все в той же позицьи» (тот же, между прочим, прием, что в «Юнкере Шмидте»: «честное» — «позицьи») — и вот выспренне подчеркнутая верность оборачивается комической стороной. Неспроста стихотворение по кусочкам поминается тогда, когда надо вышутить или разоблачить неоправданное постоянство убеждений или поступков. И все это независимо от «немецких баллад».
Никакого непримиримого противоречия между добродушной шуткой и сатирической издевкой в этих и им подобных случаях нет. Корень дела — в особенностях русского юмора.
В свое время Достоевский, со свойственным ему крайне обостренным ощущением национальной самобытности русского народа, категорически заявил: «...Все-таки кажется несомненным, что европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть... все характерное, все наше национальное по преимуществу (а стало быть, все истинно художественное), по моему мнению, для Европы неузнаваемо» [7]. Конечно, с этим нельзя согласиться безоговорочно. Достоевский преувеличивает. И все же, по крайней мере, относительно нашего юмора, такое утверждение сохраняет известную правоту. Ведь чего-нибудь да стоит реальный опыт: сочинения Пруткова, насколько известно, крайне редко переводились на другие языки, в то время как иные юмористы с большим или меньшим успехом поддаются иноязычной передаче, и чужое создание в разной мере приближается к смыслу оригинала. Здесь же вне этой юмористической стихии в разных ее вариантах (от легкой шутки до ядовитой сатиры) вряд ли что ценное от Пруткова останется.
Особенности такого непосредственного, непереводимого юмора, идущего от очень здорового национального самосознания, нельзя кратко и однозначно сформулировать. Некоторые из них можно переживать только в конкретных образных претворениях.
Припомним снова представления о «безграничной» прутковской «тупости». Особенно часто говорится о ней применительно к «Мыслям и афоризмам». Так утверждал уже Алексей Жемчужников в упомянутом письме к брату: вместо «житейской мудрости» Прутков с важностью изрекает «общие места», «вламывается в открытые двери». Как говорится, авторам и книги в руки. Однако имеющаяся в виду «житейская мудрость» сама по себе тоже некое «общее место»! Так что «общее место» — вовсе еще не тот признак, по которому пародия отлична от подлинной мудрости. Значит, различие в чем-то ином.
Вот два афоризма:
«Шпионы подобны букве «Ъ». Они нужны в некоторых только случаях, но и тут можно без них обойтиться, а они привыкли всюду соваться».
«Девицы вообще подобны шашкам: не всякой удается, но всякой желается попасть в дамки».