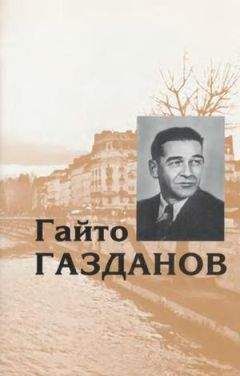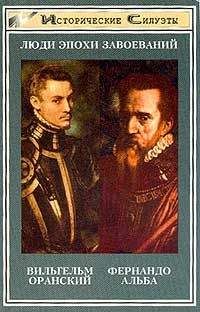– Это мой сынок, Пьер, хороший мальчик.
И, наклонившись к его уху, прибавил шепотом:
– Никому не говори, что ты меня видел, а?
А через два дня, вечером, произнося свой очередной монолог, он сказал, обращаясь к жене:
– Всем известно, что одно поколение не понимает другого. Но будем надеяться, что наши дети не будут нас судить слишком строго.
И посмотрел при этом на сына. Пьер отлично понял тогда, что именно имел в виду его отец. И когда он вспомнил обо всем этом через несколько месяцев после его смерти, он вдруг подумал, что никогда больше не будет ни этого осеннего дня, ни этой смеющейся женщины в зеленом платье, что все сдвинулось и смешалось, как сон, исчезая в том неизвестном пространстве, куда с таким упорным молчанием уходил потом Альберт Форэ и которого он достиг в тот день, когда Пьер увидел его неузнаваемый, чернобородый труп.
Поезд продолжал идти, проникая, казалось, все глубже и глубже в дождь и туман. Слова «сберегательная касса» опять появились перед глазами Пьера и тотчас же пропали. После смерти Альберта Форэ на его собственном счету оставалось четырнадцать франков. – Твой отец нас разорил, – сказала ему мать. – Теперь, Пьеро, ты глава семьи. Мы работали всю жизнь. Если бы твой отец не играл на скачках… Что касается меня, я всегда выполняла свой долг. – И она заплакала.
«Мы работали всю жизнь…» Она действительно никогда не оставалась без дела. Она натирала полы, мыла окна, готовила, стирала, чистила овощи, выносила мусор, шила, вытирала пыль, и когда наконец казалось, что сделано решительно все, она садилась в свое твердое кресло и начинала вязать. Но, кроме этого, ее ничто не интересовало, и у нее никогда не было даже желания прочесть газету. Когда они бывали всей семьей в кинематографе, раз в неделю, она была не способна сосредоточить свое внимание на фильме, который показывался, это ее только утомляло, и Пьер не помнил, чтобы она когда-либо сказала хоть несколько слов о том, что ей понравилось или не понравилось в картине. Когда отец ее спрашивал, что она думает, она неизменно отвечала одно и то же: – Не хуже, чем другие, – независимо от того, что это было – исторический сюжет, мелодрама или фарс.
Пьер не помнил свою мать молодой, такой, какой она была изображена на семейных фотографиях, – полноватой девушкой с большими глазами. Тетка Жюстина, старшая сестра отца, огромная старуха с густыми бровями и большим носом, вся всегда в черном, как-то сказала отцу в его присутствии:
– Ты помнишь, Альберт, какой прелестной была твоя жена, когда ты был только ее женихом?
Но это, казалось, было чрезвычайно давно и исчезло настолько безвозвратно, что представлялось почти неправдоподобным. Со стороны можно было подумать, – Пьер перебирал все мысли, которые возникали у него о матери и о семье, – что ее прелестность, в которую верилось с таким трудом, существовала только до ее замужества; после замужества необходимость в ней прошла и она исчезла одновременно с этим. Иногда ему казалось просто невероятным, что целая человеческая жизнь, со всеми ее возможностями, воспоминаниями, иллюзиями и надеждами, могла быть сведена к такому бесконечно неинтересному существованию: базар, обед, ужин, уборка квартиры – и больше ничего никогда, ни при каких обстоятельствах. Но в ней все-таки, правда, оставалось то теплое и нежное, что Пьер помнил с детства, прикосновение ее полных рук, ее вечерний поцелуй перед сном – пора бай-бай, Пьеро, мой зайчик.
На монологи отца мать обычно отвечала пожатием плеч, и было очевидно, что они ее совершенно не интересовали, о чем бы ни шла речь. Было, казалось, только два предмета, которые занимали ее внимание. – необходимость экономии и все, что было с ней связано: цены на мясо, на сахар, на хлеб, на вино, именно то, к чему Альберт Форэ был совершенно равнодушен – и что ее раздражало, – и наследство тетки Жюстины. Об этом наследстве Пьер слышал всю свою жизнь, на нем строились всевозможные расчеты, вплоть до кругосветного путешествия и покупки собственного дома где-нибудь недалеко за городом. Только значительно позже он узнал, что богатство тетки Жюстины было приобретено вовсе не экономией или какими-либо хозяйственными добродетелями, а тем, что она переменила за свою жизнь несколько очень состоятельных покровителей: один из них купил и обставил ей дом, другой подарил ей чуть ли не целую витрину ювелирного магазина, третий еще что-то, – в общем, это была смена неправдоподобных историй, вроде тех, какие Пьер читал в тоненьких дешевых книжках, подписанных именами совершенно неизвестных авторов. И когда он вспомнил эту громадную старую женщину в черном глухом платье, похожем на рясу деревенского кюре, эти мохнатые брови и крупный нос, возможность подобного обогащения именно ее, тетки Жюстины, казалась ему до удивительности плохо придуманной и фальшивой. Вместе с тем это было все-таки именно так: дом стоял на своем месте, как неопровержимое каменное доказательство всей этой неправдоподобной истории, драгоценности лежали в сейфе, а деньги в Лионском Кредите; и самая очевидная убедительность этих страшных бровей и огромного носа была бессильна перед фактами. И все-таки Пьер продолжал не понимать, как у этой женщины, которую он знал старухой, вдобавок на редкость некрасивой, могла быть – даже десятки лет тому назад – такая бурная жизнь, как можно было быть в нее влюбленным, как она могла находить людей, которые были готовы дать ей все – дом, деньги, драгоценности. Она казалась ему похожей на огромную старую птицу с клювом и круглыми неподвижными глазами сплошного черного цвета.
И вот однажды, года два тому назад, ему попался старый семейный альбом, о существовании которого он не знал и который он нашел случайно, в подвале, куда он пошел за какой-то доской. Один фотографический снимок обратил на себя его внимание. Это была фотография молодой женщины с неправильными чертами лица, некрасивости которого не могли изменить никакие усилия ретуши; и несмотря на все это, в этом лице была необыкновенная привлекательность, неопределимая и неотразимая одновременно. Чья это могла быть фотография? Он осторожно вынул ее из альбома. На ее обратной стороне было написано от руки размашистым почерком: Жюстина Форэ, май тысяча восемьсот восемьдесят второго года.
Когда тетка Жюстина приезжала к ним в гости, ей подавались ее любимые блюда, мать Пьера окружала ее заботами и даже голос ее приобретал какие-то особенные интонации, которые невозможно было себе представить без присутствия тетки.
Поезд остановился, простоял несколько минут на какой-то станции, потом опять тронулся, и Пьер снова стал думать о том, что его занимало до остановки, – так, словно движение этих воспоминаний точно соответствовало ходу поезда.
Столько лет тетка Жюстина приезжала к ним в их маленькую квартиру, недалеко от площади Данфэр-Рошеро, столько раз она сидела за столом и ела с неприятной старческой жадностью то, что ей подавала мать. – Как вы находите курицу, Жюстина? Вам не кажется, что рис чуть-чуть суше, чем следовало бы, Жюстина? Достаточно ли вам тепло, Жюстина? – И все это было совершенно зря. Это было зря – потому что и приобретение загородного дома, и проект кругосветного путешествия, и все остальное, – это был праздный вздор, абсурдные иллюзии, глупейший мираж, «мечта, которая рассыпалась прахом», – как сказал Альберт Форэ, – потому что перед смертью тетка Жюстина оставила завещание, по которому все ее имущество переходило монастырям. И в то время, как мать плакала, узнав об этом, отец ходил по комнате и говорил, что все в конце концов логично и что еще не было примера, чтобы католическая церковь отвергала пожертвования грешниц. – Они не зададут себе вопроса о том, каким путем все это было заработано и откуда им идет это украденное у нас богатство? – Да, нас обокрали, – сказала мать. – Запомни это, Пьер, и никогда этого не забывай: нас обокрали.
Эта фраза потом стала совершенно обычной; по мере того как проходило время, она теряла свою первоначальную горечь, но смысл ее не изменялся: – После того как нас обокрали, – вы понимаете, я говорю об этом позорном случае с теткой Жюстиной… – Ты помнишь, Альберт, это было вскоре после того, как нас обокрали… – В сущности, это был удар, от которого Альберт Форэ никогда не мог оправиться. Когда Пьер думал о своем отце, он неизменно приходил к заключению, что тот строил все свои планы, и в особенности планы обогащения – путешествия, загородный дом, – на совершенно произвольных предположениях, сводившихся, в общем, к постоянному расчету на чудо. Он мог, в частности, разбогатеть, выиграв огромную сумму на скачках, купив билет Национальной лотереи или, наконец, получив наследство тетки Жюстины. Другие способы составить состояние его мало интересовали и казались ему несбыточными, – в такой же мере Пьеру было очевидно, что именно расчеты на выигрыш или на наследство меньше всего следовало принимать во внимание. И оттого, что Альберт Форэ всю жизнь верил со слепой наивностью в выигрыш или наследство, он вел свои дела с такой неизменной небрежностью. Он, впрочем, допускал возможность постоянной ошибки в своих расчетах на выигрыш; но в том, что он, именно он, получит наследство, он никогда не сомневался. Он верил в это еще и потому, что ему, как многим людям, казалось, что он, Альберт Форэ, конечно, заслуживает лучшей участи, чем та, которая выпала на его долю. Он был убежден, никогда об этом не думая, что ему естественно иметь в своем распоряжении крупные деньги и что его теперешнее положение, – которое было бы понятно, если бы речь шла о ком-нибудь другом, – для него было особенно унизительно, так как у него должна была бы быть совершенно другая жизнь – богатство, женщины и даже известность. Тот несомненный факт, что у него не было для этого решительно никаких данных и что он ничем не выделялся среди других – ни знаниями, ни способностями, ни умом, не играл никакой роли – для него не существовал. Он знал, что не заслужил своей участи, которую считал печальной, и знал, что эта явная несправедливость судьбы будет рано или поздно возмещена наследством тетки Жюстины.