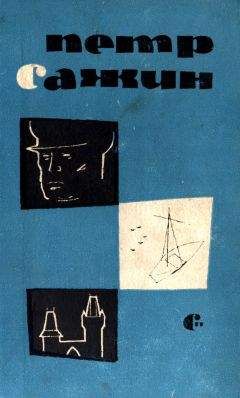- Вот полюбуйтесь, пришло вчера с московской почтой. Переслано из высшей инстанции. Адресовано-то было туда, но они переслали.
Ляля увидела несколько страниц, исписанных чернилами, и с ужасом узнала знакомый почерк - писала мать!
Вот оно, самое страшное, чего Ляля больше всего боялась. Мать добивается справедливости. Господи, ведь сколько раз было сказано, умоляла ее, стояла перед ней на коленях - чтобы не смела вмешиваться, чтобы никаких писем, жалоб! Любимое занятие: писать письма. Когда-то писала директору школы с требованием, чтобы письмо обсуждалось на родительском совете, писала в роно, потом, когда Лялю не приняли в театральное училище, писала в министерство. Она и дома, когда сердится на кого-то, выясняет отношения с помощью писем. Нередко Ляля, проснувшись, находила на своем столе страницы две, три, четыре, а то и больше, бывало до целой ученической тетради, исписанные крупными слитными строчками без знаков препинания: "Людмила ты должна знать что когда берешь чужую вещь ее необходимо возвратить не дожидаясь просьбы это неделикатно ты взяла мою черную меховую накидку..."
Подавив стон, Ляля придвинула к себе рукописные листки - сразу узнала большую счетоводческую книгу отца, из которой листки были вырваны, - и стала бегло читать, перескакивая через строчки, Читать подробно, вникая в каждое слово, не было сил. "Обращается мать молодой артистки... Еще в школьном драмкружке, которым руководил заслуженный артист... Шестой год после зачисления в труппу... Неужели наша артистическая молодежь должна... До каких пор самовластье режиссеров..."
- Ну что я могу сказать, Герман Владимирович? - Ляля отбросила листки и с отчаянием взглянула на Смурного, который повис над столиком и смотрел на нее сверху с застылой улыбкой. - Писала моя мама. Я за нее, как вы понимаете, не отвечаю. К тому же она больной человек.
- Больной человек? По письму незаметно. Написано связно, обвинения серьезные, хотя и бездоказательные, то есть - клеветнические. Но написано хитро и кое-что между строк прочитывается. Больные люди на этакое не способны.
- Что между строк?
- Да вот здесь! - Он ткнул пальцем. - Пахучее местечко.
Ляля увидела фразу, которую при первом чтении проскочила: "...не пошла ему навстречу, после чего последовала режиссерская месть, оба спектакля, им поставленные..." О-о! Ну зачем же это? Зачем, боже мой, зачем, зачем? Теперь Ляля не могла поднять глаз на Смурного и тянула время, шевеля губами, делая вид, что с трудом разбирает почерк. Смурный терпеливо ждал, потом спросил:
- Ну? Хотелось бы услышать...
- А что я могу сказать?
Ляля взглянула - он не улыбался, глаза оловянно-строгие, губы пучком.
- Как - что? Позвольте узнать: что означает сей бред? Какая месть? Что за околесица?
- Я не знаю, Герман Владимирович, ей-богу...
И вдруг, не выдержав, прыснула смехом. Потому что все было какой-то жалкой ерундой. Не напоминать же ему. И это лицо, багровое, колыхавшееся от гнева. Мать сотворила глупость, но ведь написала правду. Он знает, что написала правду, но делает оловянные глаза и требует - боже мой, чего же он требует? - чтобы она, Ляля, стыдилась за мать, чтобы умирала от чувства стыда и этот стыд был бы некоторой отплатой за те неприятности, которые он испытал, получив письмо, пересланное из высшей инстанции. Теперь уже все равно. Значит, стыдиться за мать не нужно. Зачем стыдиться за несчастную женщину, которая терзается и не спит ночей из-за дочкиных неурядиц и пытается в меру своего разумения... Да ведь главное, главное: написала правду! Все правда от первой до последней строчки.
И, совершенно успокоившись, Ляля выложила все это Смурному: мама, конечно, не дипломат, действует глупо, за это ей будет хороший бенц, но кое в чем она права. Как - права? О чем вы говорите? Вот о том-то, о том-то. О чем вы прекрасно знаете. Вы дико самоуверенны! Просто мне нечего терять. Нет, моя милая, вам есть что терять. Не страшно, Герман Владимирович. Чтицей в Мосэстраде или на радио и то лучше, чем здесь, под вашим крылышком. Не думайте, что так легко устроиться, тем более вам - без театрального образования. Ничего, свои шестьсот пятьдесят я всегда заработаю, и даже больше. Ну хорошо, ваши личные планы меня мало интересуют, а это пирожное мы перешлем сегодня же Сергею Леонидовичу, пусть он его кушает. Высшие инстанции требуют ответа. А мне безразлично, делайте, как хотите. Значит, договорились. До свиданья. Будьте здоровы. И надо проветрить, Герман Владимирович, комнату: тут какой-то нехороший запах.
Ляля выбежала от Смурного на улицу, кружила по скверу, стояла бесцельно в какой-то очереди, потом вернулась в гостиницу в свой номер и легла. Колотилось сердце, и набегали всякие слова, злые, справедливые, которые не были сказаны. А почему Милютина, которая в театре без году неделя?.. - и так далее и тому подобное. Женьку Милютину не трогать, бог с ней, мать-одиночка. Но каков подлец: без театрального образования! Второй раз колет этим. Можно иметь диплом и быть дубиной. Мало ли примеров! Артистами не становятся, а родятся, болван. Ее приняли в труппу по личной просьбе Сергея Леонидовича, а уж он-то понимает, наверное, побольше какого-то Смурного. Но не в том беда. А вот в чем: стыдно за мать. Нет - за себя, за себя, невыносимо! Он этого и добивался: чтоб сгорела со стыда. И правда хочется. Просто вот так вытянуться, стиснуть зубы, закрыть глаза и лежать не двигаясь: _гореть со стыда_. Обуглиться, уничтожиться. Жизни в театре не будет, Сергей Леонидович проклянет. Актеры будут смеяться и, как выражается Боб Миронович, "злоушничать", когда узнают, а узнают непременно: Смурный позаботится. И придется уходить. Но ведь некуда и невозможно. Если б у Гриши хоть как-то сдвинулись его дела - тогда рискнуть... Но теперь - как же? Откуда брать шестьсот пятьдесят? И как всегда, когда получала щелчок по носу - а щелчков таких в Лялиной жизни набралось порядочно, с каждым годом больнее, - после обиды, тихого отчаяния, поспешных и суматошных соображений, что делать, как протестовать, наступало самое гнусное, убивающее: сомнения. А если правы? А вдруг - бездарность? И все видят, понимают, Сергей Леонидович жалеет по старой дружбе, а Смурному жалеть нет надобности.
Удрученная страшными мыслями, Ляля долго, недвижно лежала в пустой комнате - гримерша куда-то ушла, не с кем было поделиться, - пока крик из коридора: "Телепнева, на выход!" - не вывел ее из унылого оцепенения. Понедельник! Мать звонит каждый понедельник, когда театр выходной. Слышно было отлично:
- Доченька! Ну как ты? Что у тебя?
Телефон стоял в вестибюле, вокруг шныряли люди. Паша Корнилович с Макеевым прошли с сумкой к дверям, наверно на рынок. Паша, проходя, шлепнул Лялю сзади ладонью, такой негодяй, всегда шлепает, и Ляля, как ни была расстроена и поглощена разговором, прикрыла трубку и крикнула:
- Одерни! Одерни немедленно!
Паша послушно подбежал и одернул юбку: чтоб поклонники не переводились. Говорить маме все, что кипело, было тут, конечно, немыслимо. Ляля спрашивала, узнала, что отец здоров, хлопочет о саде, движения пока нет. Гриша на Башиловке, недавно привез по ее просьбе овощей, правда, картошка неудачная, мелкая и дорогая, сейчас молодая по три с полтиной повсюду, а он как-то неловко купил, с утра поехал, по четыре рубля, - разговор о картошке Лялю слегка встревожил, тут был скрыт намек на привычное недовольство зятем, и Ляля с некоторым раздражением прервала мать, сказав, что цены на картошку ее не интересуют, а вот что-нибудь о Гришиных делах: из киностудии ему ответили? Мать точно только ждала этого, сказала тоном агрессивной жалобы:
- Ты же знаешь, твой Гриша никогда ничего нам не рассказывает о своих делах!
В другой раз Ляля пропустила бы фразу мимо ушей, сочла бы ее нормальной, но теперь, когда она едва сдерживалась от того, чтобы не накричать на мать, она не могла смолчать и ответила тоже с нажимом:
- Но можно и самой поинтересоваться, правда же? Ты знаешь, как это нам важно.
- Я не люблю вмешиваться в чужие дела.
- Нет, любишь! - вырвалось у Ляли. - Любишь, любишь!
И уж не могла удержаться, выпалила все: сто раз просили _этого не делать_, умоляли, объясняли, и вот _это_ здесь, каким же надо быть упрямым, нехорошим человеком, теперь скандал, ну, ладно, что ж говорить, не поправишь, но все очень плохо. Мать, не понимая, металась на другом конце провода:
- Что? Как? Говори яснее!
- О твоих _стихах_!
- Каких стихах?
- Которые ты любишь _сочинять_ и посылать в разные редакции!
- Господи, да ведь... когда это было? Четыре месяца назад?
Разговор был бессмыслен, Ляля сказала слабым голосом: "Ну ладно, мама, пока" - и звякнула трубкой.
Старая актриса Алмазова шла к титану за кипятком, замешкалась в вестибюле, ушки топориком, и, когда Ляля кинула трубку, блеснул на секунду жадный старухин взгляд. То ли Алмазиха услышала и разгадала, то ли Смурный уже пустил звон, но вечером в доме автора кто-то из актерок шептал Ляле возбужденно: