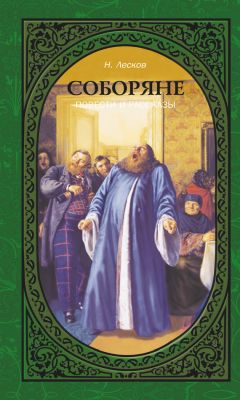— Что ж, я ведь, отец протопоп, свой сан никогда…
— Что!
— Я свой сан никогда унизить не согласен.
— Да, я знаю, ты даже его возвысить стремишься: богомольцев незнакомых иерейским благословением благословляешь… — С этим словом протопоп сделал к дьякону шаг и, ударив себя по колену, прошептал: — А кто это, не знаете ли вы, отец дьякон, кто это у бакалейной лавки, сидючи с приказными, папиросы курит?
Дьякон сконфузился и забубнил:
— Что ж, я точно, отец протопоп… Этим я виноват, отец протопоп… но это больше ничего, отец протопоп, как по неосторожности, ей-право, отец протопоп, по неосторожности.
— Смотрите, мол, какой дьякон франт, как он хорошо папиросы муслит.
— Нет; ей-право, ей, великое слово, ей-ей, отец протопоп. Что ж мне этим хвалиться? Но ведь этой невоздержностью не я один из духовных грешен.
Туберозов оглядел дьякона с головы до ног самым многозначущим взглядом и, подняв голову, спросил:
— Что же ты, хитроумец, мне этим сказать хочешь? То ли, что, мол, и ты сам, отец протопоп, куришь?
Дьякон смутился и ничего не ответил.
Туберозов долго-долго наслаждался замешательством Ахиллы, и наконец, указывая рукою на угол комнаты, где стояли три черешневые чубука, проговорил:
— Что такое я, отец дьякон, курю?
Ему опять отвечало одно молчание.
— Говори же, что я курю?
— Трубку, — ответил дьякон.
— Трубку. Где я ее курю? Я ее дома курю?
— Дома курите.
— В гостях, у хороших друзей курю?
— В гостях курите.
— А не с приказчиками у лавок курю! — вскрикнул вдруг, откидываясь всем телом назад, Туберозов и с этим словом, постучав внушительно пальцем по своей ладони, добавил: — Ступай к своему месту, да смотри за собою. — С этим отец протопоп стал своею большущею ногою на соломенный стул и начал бережно снимать рукою желтенькую канареечную клетку.
В это время отпущенный с назиданием дьякон было тронулся молча к двери, но у самого порога вздумал поправиться хотя одним словом и, возвращаясь шаг назад в комнату, проговорил:
— Извините меня, отец протопоп, я теперь точно вижу, что он свинья и что на него не стоило обращать внимания.
— А я тебе подтверждаю, что ты ничего не видишь, — отвечал, тихо спускаясь, соскакивая с клеткой в руках со стула, отец Туберозов. — Я тебе подтверждаю, — добавил он, подмигнув дьякону устами и бровью, — что ты слепая курица. Помни лучше, что где одна свинья дыру роет, там другим след кладет.
— И опять не в такту, — проговорил в себе Ахилла-дьякон, выскочив разрумяненный из дома отца протопопа. Как ни крепки были толстые нервы Ахиллы, он все-таки был так расстроен и взволнован, что не пошел прямо домой, а отправился к небольшому желтенькому домику, из открытых окон которого выглядывала целая куча белокуреньких детских головок.
Дьякон торопливо взошел на крылечко этого домика, потом с крыльца вступил в сени и, треснувшись о перекладину лбом, отворил дверь в низенькую залу. По зале, заложив назад маленькие ручки, расхаживал сухой миниатюрный человечек в подряснике и с длинной серебряной цепочкой на запавшей груди.
Это был сотоварищ Туберозова, второй соборный священник, отец Захария. Он летами был ровесник отца Савелия, но, будучи сух и до последней степени миниатюрен, казался гораздо его моложе. У отца Захарии седой пронизи было гораздо менее, чем у Туберозова, и в чертах лица еще не заметно было старческой сухости; у него были детские голубые глазки и лицо самое доброе и все как будто улыбающееся.
Ахилла-дьякон входил в дом к отцу Захарию совсем не с тою физиономиею и не той поступью, с какими он вступал к отцу протопопу. Напротив, даже самое смущение его, с которым он вышел от отца Туберозова, по мере его приближения к дому отца Захарии, все исчезало и, наконец, на самом пороге заменилось уже крайним благодушием. Дьякон спешил вбежать в комнату как можно скорее и от нетерпения еще у порога начинал:
— Ну, отец Захария! ну…
— Что такое? — спросил с кроткою улыбкою отец Захария и, остановясь на одну минутку перед дьяконом, сказал: — Чего егозишься, а? чего это? чего? — И с этим словом священник, не дождавшись ответа, тотчас же заходил снова.
Дьякон прежде всего весело расхохотался и потом воскликнул:
— Ну, да и был же мне пудромантель! Ох, отче, от мыла голова болит.
— Кто же? а? Кто, мол, тебя пробирал-то?
— Да ведь один у нас министр юстиции.
— А, отец Савелий.
— Никто же другой. Дело, отец Захария, необыкновенное по началу своему и по окончанию необыкновенное. Смял все, стигостил, повернул Бог знает куда лицом и вывел что такое, чего рассказать не умею.
Дьякон сел и с мельчайшими подробностями передал отцу Захарию всю свою историю с Данилой и с отцом Туберозовым. Захария, во все время этого рассказа, все ходил тою же подпрыгивающей походкой. Только лишь он на секунду приостанавливался, по временам устранял с своего пути то одну, то другую из шнырявших по комнате белокурых головок, да когда дьякон совсем кончил, то, при самом последнем слове его рассказа, закусив губами кончик бороды, проронил внушительное: «Да-с, да, да, да — однако, ничего».
— Я больше никак не рассуждаю, что они в гневе и еще…
— Да; и еще что такое? Подите вы прочь, пострелята! Так, и что такое еще? — любопытствовал Захария, распихивая в то же время с дороги детей.
— И что я еще в это время так неполитично трубки коснулся, — объяснил дьякон.
— Да; ну, конечно… разумеется… отчасти оно могло тоже… да; но, впрочем, все это… Подите вы прочь, пострелята! впрочем, все пройдет, да, пройдет, дьякон, пройдет.
И дьякон совершенно этим успокоился и даже, встретясь по дороге домой с Данилою, остановил его и сказал:
— Ты, брат, на меня не сердись; я если наказал тебя, то по христианской обязанности наказал.
— Всенародно оскорбили, отец дьякон! — отвечал Данилка тоном обиженным, но звучащим склонностью к примирению.
— Ну, и что ж теперь будешь делать, когда я строг?.. Я тебе в сенях у городничего говорил: рассуждай, Данило, по бытописанию, как хочешь; но обряда не касайся. Говорил я ведь это: «не касайся обряда»?
Данилка нехотя кивнул головою.
— Да, — продолжал дьякон, — я говорил. А почему я так говорил? Потому, что это наша жизненность, существо наше, и ты его не касайся. Понял теперь, Данило?
— Строго, строго очень поступили, отец дьякон, — говорили находившиеся при этом разговоре два мещанина.
Ахилла-дьякон, выслушав это замечание, добродетельно вздохнул и, положив свои руки на плечи обоих мещан, сказал:
— Строг!.. — И, подумав минутку, добавил: — Но зато и справедлив.
И с этим они все разошлись, и к вечеру того же дня история эта уже была почти позабыта; все были успокоены, и все отошли ко сну своему тихо, мирно и безмятежно. Не так отнесся к этому дню только один Туберозов.
XVIII. САВЕЛЬЕВА СИНЯЯ КНИГА
Протоиерей Туберозов, выпроводив дьякона, ни лицом своим, ни поступками не обнаружил ни гнева, ни смущения. Оставшись сам с собою, он спокойно переменил корм своим канарейкам, потом походил по саду, потом в свое время пообедал и заснул в зале на мятом турецком диване, обитом светлым мебельным ситцем. Восстав от послеобеденного сна, отец Савелий прошелся, навестил городничего и возвратился домой, когда для него на том же самом диване уже была постлана белая простыня и положены две большие подушки и легкое ситцевое одеяло.
Отец Туберозов закусил и простился со своей протопопицей. Прощанье отца протопопа с женою происходило обыкновенно в продолговатой узенькой комнатке рядом с гостиной, служившей Туберозову в то же время и кабинетом, и спальней. Протопопица спала одна на широкой кровати в упомянутой узенькой комнате, где у окошечка стоял маленький ломберный столик. На этом-то столике для отца протоиерея и приготовлялась его легкая вечерняя закуска. Протопопица сама никогда не ужинала, потому что иначе ей снились страшные сны. Она обыкновенно только сидела перед мужем, пока он закусывал, и оказывала ему небольшие услуги. Потом они оба вставали, молились перед образом и непосредственно за тем оба начинали крестить один другого. Это взаимное благословение друг друга на сон грядущий они производили всегда оба одновременно и притом с такою ловкостью и быстротою, что нельзя было надивиться, как их быстро мелькавшие руки не щекнут одна по другой и одна другую не остановят.
Получив взаимные благословения, супруги напутствовали друг друга и взаимным поцелуем, причем отец протопоп целовал свою низенькую жену в лоб, а она его в сердце. Затем они расставались: отец протопоп уходил в свою гостиную, запирал за собою на крючок дверь и, поправив собственными руками свое изголовье, садился в одном белье по-турецки на диван и выкуривал трубку, а потом предавался покою. Точно так же пришел он в свою комнату и сегодня и так же выкурил свою трубку, но не лег в постель, а встал, взял к себе на колена маленькую кучерявую коричневую собачку и стал щекотать ее шейку.