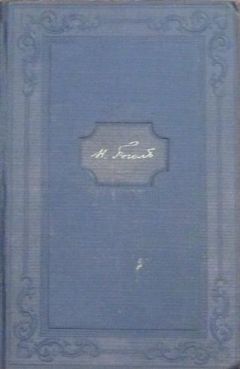И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви божьей! Украйне не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос из своей чупрыны и проклянет и день, и час, в который породил на позор себе такого сына.
VII.
Шум и движение происходило в запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана прежде, чем все могли узнать, в чем дело. Покамест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и, когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал:
„Так вот что, панове братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель! Вот какое поруганье оказал нам неприятель! У вас, видно, уже такое заведение: коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите.“
Козаки все стояли, понурив головы, зная вину; один только незамайновский куренной атаман Кукубенко отозвался. „Постой, батько!“ сказал он: „хоть оно и не в законе, чтобы сказать какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом всего войска, да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул всё христианское войско. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжкой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержанья не было: как же может статься, чтобы на бездельи не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой.“
Речь куренного атамана понравилась козакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвивши: „Добре сказал Кукубенко!“ А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал: „А что, кошевой, видно Кукубенко правду сказал? Что ты скажешь на это?“
„А что скажу? Скажу: блажен и отец, родивший такого сына! Еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде.“
„Добре сказал и кошевой!“ отозвалось в рядах запорожцев. „Доброе слово!“ повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сивые голуби, и те кивнули головою и, моргнувши седым усом, тихо сказали: „Добре сказанное слово!“
„Слушайте же, панове!“ продолжал кошевой: „Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные, немецкие мастера — пусть ей враг прикинется! — и неприлично, и не козацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом; телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный; стало-быть, всё съест духом, да и коням тоже сена… уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой… только про это еще бог знает; а ксендзы-то их горазды на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дядькивский и Корсунский курень на засаду! Полковник Тарас с полком на засаду! Тытаревский и Тымошевский курень на запас с правого бока обоза! Щербиновский и Стебликивский верхний — с левого боку! Да выбирайтесь из ряду, молодцы, которые позубастее на слово, задирать неприятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпит; и, может-быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, перегляди всякий курень свой: у кого недочет, пополни его останками Переяславского. Перегляди всё снова! Дать на опохмел всем по чарке и по хлебу на козака. Только, верно, всякий еще вчерашним сыт, ибо, некуда деть правды, понаедались все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ: если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст козаку хоть один кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо, собаке, и повешу ногами вверх! За работу же, братцы! За работу!“
Так распоряжал кошевой, и все поклонились ему в пояс и, не надевая шапок, отправились по своим возам и таборам и, когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.
Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрий, полонили ли его вместе с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрий, чтобы отдаться живым в плен. Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени. „Кому нужно меня?“ сказал он, наконец, очнувшись. Перед ним стоял жид Янкель.
„Пан полковник, пан полковник!“ говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело, не совсем пустое. „Я был в городе, пан полковник!“ Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе. „Какой же враг тебя занес туда?“
„Я тотчас расскажу“, сказал Янкель: „Как только услышал я на заре шум и козаки стали стрелять, я ухватил кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом; дорогою уже надел его в рукава, потому что хотел поскорей узнать, отчего шум, отчего козаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу, — впереди отряда пан хорунжий Галяндович. Он человек мне знакомый: еще с третьего года задолжал сто червонных. Я за ним, будто бы за тем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город.“
„Как же ты: вошел в город, да еще и долг хотел выправить?“ сказал Бульба: „И не велел он тебя тут же повесить, как собаку?“
„А, ей-богу, хотел повесить“, отвечал жид: „уже было его слуги совсем схватили меня и закинули веревку на шею, но я взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей; ибо у пана хорунжего, — я всё скажу пану, — нет и одного червонного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самого Шклова, а грошей у него так, как у козака, — ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме оттого не был…“
„Что ж ты делал в городе? Видел наших?“
„Как, же! Наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор…“
„Пропади они, собаки!“ вскрикнул, рассердившись, Тарас: „Что ты мне тычешь свое жидовское племя! Я тебя спрашиваю про наших запорожцев.“
„Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрия.“
„Андрия видел!“ вскрикнул Бульба: „Что ж ты, где видел его?.. в подвале?.. в яме?.. обесчещен?.. связан?..“
„Кто же бы смел связать пана Андрия? Теперь он такой важный рыцарь… Далибуг, я не узнал! И наплечники в золоте и нарукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и всё золото. Так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет, и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего под верх; два ста червонных стоит один конь.“
Бульба остолбенел.
„Зачем же он надел чужое одеянье?“
„Потому что лучше, потому и надел… И сам разъезжает, и другие разъезжают; и он учит, и его учат. Как наибогатейший польский пан!“
„Кто ж его принудил?“
„Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним?“
„Кто перешел?“
„А пан Андрий.“
„Куда перешел?“
„Перешел на их сторону, он уж теперь совсем ихний.“
„Врешь, свиное ухо!“
„Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве, чтобы врал? На свою бы голову я врал? Разве я не знаю, что жида повесят, как собаку, коли он соврет перед паном?“
„Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру?“
„Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, что он перешел к ним.“
„Врешь, чортов жид! Такого дела не было на христианской земле! Ты путаешь, собака!“
„Пусть трава порастет на пороге моего дома, если я путаю! Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекора, и отца отца моего и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел к ним.“