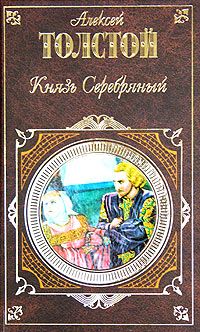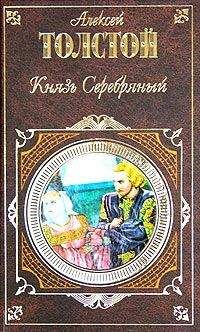«А! – подумал царь. – Так вот что значили мои ночные видения! Враг хотел помрачить разум мой, чтоб убоялся я сокрушить замыслы брата. Но будет не так. Не пожалею и брата!»
– Говори, – сказал он, обращаясь грозно к Малюте, – говори, что знаешь про Володимира Андреича!
– Нет, государь, моя речь теперь не про Володимира Андреича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобой учинил. И бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царства. Моя речь не про него.
– Про кого же? – спросил царь с удивлением, и черты его судорожно задвигались.
– Видишь, государь: Володимир-то Андреич раздумал государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себе на уме; не удалось, мол, его на царство посадить, так мы посадим…
Малюта замялся.
– Кого? – спросил царь, и глаза его запылали.
Малюта позеленел.
– Государь! Не все пригоже выговаривать. Наш брат думай да гадай, а язык держи за зубами.
– Кого? – повторил Иоанн, вставая с места.
Малюта медлил ответом.
Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул лицо его к своему лицу и впился в него глазами.
Ноги Малюты стали подкашиваться.
– Государь, – сказал он вполголоса, – ты на него не гневайся, ведь он не сам вздумал!
– Говори! – произнес хриплым шепотом Иоанн и стиснул крепче ворот Малюты.
– Ему-то и на ум бы не взбрело, – продолжал Малюта, избегая царского взора. – Ну, а должно быть, подбили его. Кто к нему поближе, тот и подбил. А он, грешный человек, подумал себе: немного позже, немного ране, все тем же кончится.
Царь начал догадываться. Он сделался бледнее. Пальцы его стали разгибаться и выпускать ворот Малюты.
Малюта оправился. Он понял, что настала пора для решительного удара.
– Государь! – сказал он вдруг резко, – не ищи измены далеко. Супротивник твой сидит супротив тебя, он пьет с тобой с одного ковша, ест с тобой с одного блюда, платье носит с одного плеча!
Замолчал Скуратов и, полный ожидания, решился устремить на царя кровавые глаза свои.
Замолчал и царь. Руки его опустились. Понял он наконец Малюту.
В это мгновение раздались на дворе радостные крики.
Еще в самое то время, как начался разговор между царем и Скуратовым, царевич с своими окольными въехал на двор, где ожидали его торговые люди черных сотен и слобод, пришедшие от Москвы с хлебом-солью и с челобитьем.
Увидев царевича, они все стали на колени.
– Чего вы просите, аршинники? – спросил небрежно царевич.
– Батюшка! – отвечали старшины. – Пришли мы плакаться твоей милости! Будь нам заступником! Умилосердись над нашими головами! Разоряют нас совсем опричники, заедают и с женами и с детьми!
– Вишь, дурачье! – сказал царевич, обращаясь с усмешкой к Басманову. – Они б хотели и жен и товар про себя одних держать! Да чего вы расхныкались? Ступайте себе домой; я, пожалуй, попрошу батюшку за вас, дураков!
– Отец ты наш, дай бог тебе многие лета! – закричали торговые люди.
Царевич сидел на коне. Возле него был Басманов. Просители стояли перед ними на коленях. Старший держал золотое блюдо с хлебом-солью.
Малюта все видел из окна.
– Государь, – шепнул он царю, – должно быть, его подбил кто-нибудь из тех, что теперь с ним. Посмотри, вот уже народ ему на царстве здоровает!
И как чародей пугается недоброй силы, которую сам он вызвал, так Малюта испугался выражения, которое слова его вызвали на чертах Иоанна.
С лица царя исчезло все человеческое. Таким страшным никогда не видывал его Малюта. Прошло несколько мгновений. Вдруг Иоанн улыбнулся.
– Гриша, – сказал он, положив обе руки на плеча Скуратова, – как бишь ты сейчас говорил? Я рублю сучья да ветки, а ствол-то стоит здоровешенек? Гриша, – продолжал царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту с какой-то страшной доверчивостью, – берешься ли ты вырвать с корнем измену?
Злобная радость скривила рот Малюты.
– Для твоей милости берусь, – прошептал он, дрожа всем телом.
Выражение Иоанна мгновенно изменилось. Улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высеченным из мрамора.
– Не надо медлить! – сказал он отрывисто и повелительно. – Никто чтобы не знал об этом. Он сегодня будет на охоте. Сегодня же пусть найдут его в лесу. Скажут, он убился с коня. Знаешь ты Поганую Лужу?
– Знаю, государь.
– Там чтоб нашли его! – Царь указал на дверь.
Малюта вышел и в сенях вздохнул свободнее.
Царь долго оставался неподвижен. Потом он медленно подошел к образам и упал пред ними на колени.
Изо всех слуг Малютиных самый удалый и расторопный был стремянный его Матвей Хомяк. Он никогда не уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество и уступал в зверстве лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по которой после казнили боярина, требовалось ли увести жену чью-нибудь, всегда посылали Хомяка. И Хомяк поджигал деревни, подкидывал грамоты и вместо одной жены привозил их несколько.
К Хомяку обратился и теперь Григорий Лукьянович. Что они толковали вместе, того никто не услышал. Но в это самое утро, когда гончие царевича дружно заливались в окрестностях Москвы, а внимание охотников, стоявших на лазах, было поглощено ожиданием, и каждый напрягал свое зрение, и ни один не заботился о том, что делали его товарищи, – в это время по глухому проселку скакали, удаляясь от места охоты, Хомяк и Малюта, а промеж них со связанными руками, прикрученный к седлу, скакал кто-то третий, которого лицо скрывал черный башлык, надвинутый до самого подбородка. На одном из поворотов проселка примкнули к ним двадцать вооруженных опричников, и все вместе продолжали скакать, не говоря ни слова.
Охота меж тем шла своим чередом, и никто не заметил отсутствия царевича, исключая двух стремянных, которые теперь издыхали в овраге, пронзенные ножами.
Верст тридцать от Слободы, среди дремучего леса, было топкое и непроходимое болото, которое народ прозвал Поганою Лужей. Много чудесного рассказывали про это место. Дровосеки боялись в сумерки подходить к нему близко. Уверяли, что в летние ночи над водою прыгали и резвились огоньки, души людей, убитых разбойниками и брошенных ими в Поганую Лужу.
Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности. Большие деревья, лишенные снизу ветвей, поднимались из воды, мутной и черной. Отражаясь в ней, как в туманном зеркале, они принимали чудный вид уродливых людей и небывалых животных. Не слышно было вблизи болота человеческого голоса. Стаи диких уток прилетали иногда плескаться на его поверхности. В камыше раздавался жалобный крик водяной курочки. Черный ворон пролетал над вершинами дерев, и зловещее карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стук топора, треск надрубленного дерева и глухое падение.
Но когда солнце опускалось за вершины, когда над болотом подымался прозрачный пар, стук топора умолкал, и прежние звуки заменялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушек, сперва тихое и отрывистое, потом громкое, слитым хором.
Чем более сгущалась темнота, тем громче кричали гады. Голоса их составляли как бы один беспрерывный и продолжительный гул, так что ухо к нему привыкало и различало сквозь него и дальний вой волков, и вопли филина. Мрак становился гуще; предметы теряли свой прежний вид и облекались в новую наружность. Вода, древесные ветви и туманные полосы сливались в одно целое. Образы и звуки смешивались вместе и ускользали от человеческого понятия. Поганая Лужа сделалась достоянием силы нечистой.
К сему-то проклятому месту, но не в темную ночь, а в утро солнечное, Малюта и опричники его направляли бег свой.
В то самое время, как они торопились и погоняли коней, другие молодцы, недоброго вида, собирались в дремучем лесу недалеко от Поганой Лужи.
Глава 13
Ванюха Перстень и его товарищи
На широкой поляне, окруженной древними дубами и непроходимым ломом, стояло несколько земляных куреней; а между ними на опрокинутых пнях, на вывороченных корнях, на кучах сена и сухих листьев лежало и сидело множество людей разных возрастов, в разных одеждах. Вооруженные молодцы беспрестанно выходили из глубины леса и присоединялись к товарищам. Много было между ними разнообразия. Сермяги, ферязи и зипуны, иные в лохмотьях, другие блестящие золотом, виднелись сквозь ветви дерев. У иных молодцов были привешены к бедрам сабли, другие мотали в руках кистени или опирались на широкие бердыши. Немало было тут рубцов, морщин, всклокоченных голов и бород нечесаных.
Удалое товарищество разделилось на разные кружки. В самой средине поляны варили кашу и жарили на прутьях говядину. Над трескучим огнем висели котлы; дым отделялся сизым облаком от зеленого мрака, окружавшего поляну как бы плотною стеной. Кашевары покашливали, терли себе глаза и отворачивались от дыму.