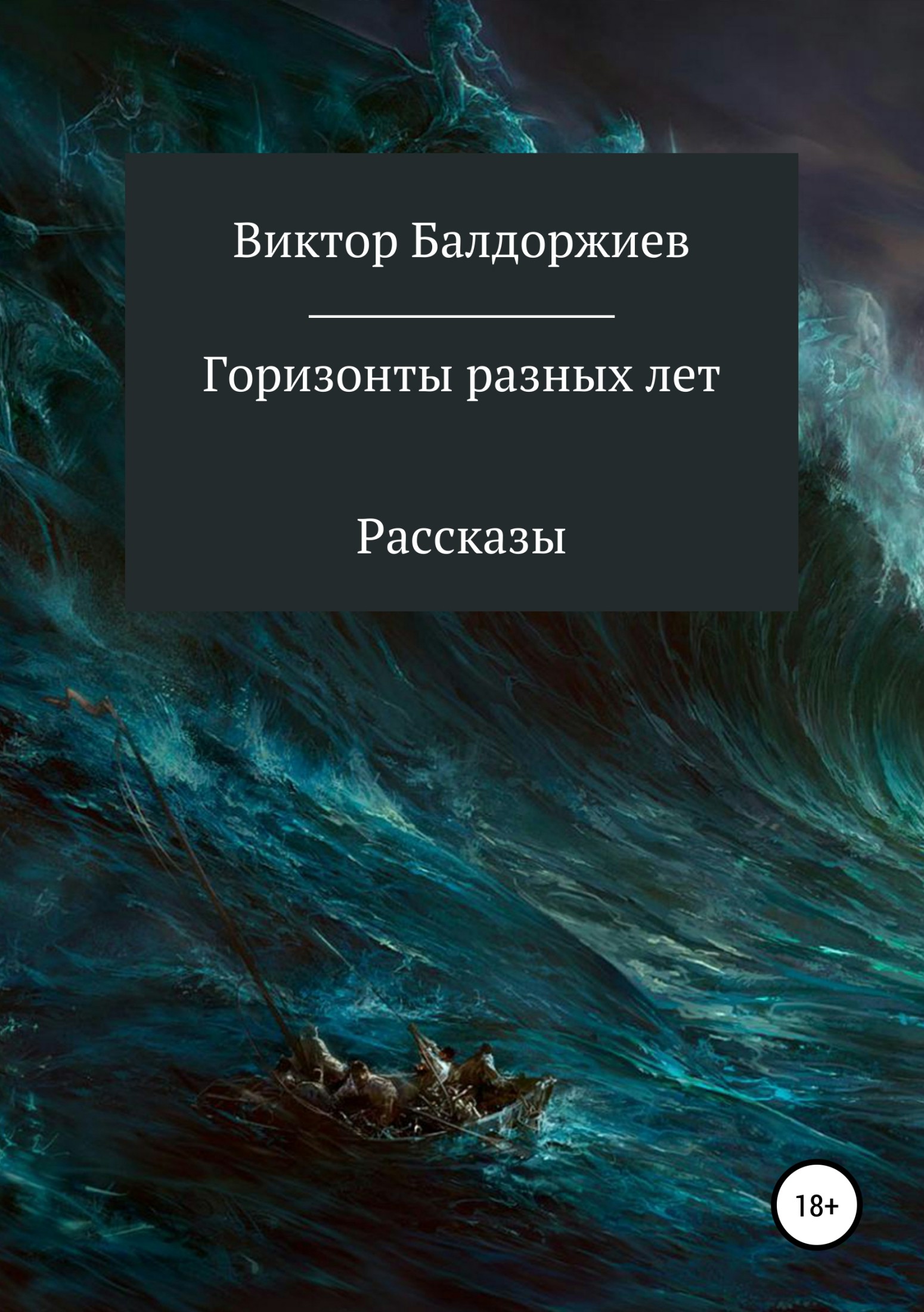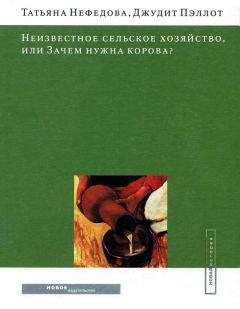эту деревню на калым, куда зазвал их однокурсник Коля, сын местного парторга.
По договору они должны оформить контору колхоза и нарисовать плакаты на жести: вождь, призывы съезда, планы колхоза, труженики. Об этом Коля договорился с отцом ещё голодной студенческой зимой, потом привёз договор, а сам летом укатил вместе со стройотрядом на сахалинскую путину.
Женя и Витя поехали на калым.
На автовокзале райцентра встретил их отец Коли, высокий и худощавый Василий Николаевич. Возле него поблёскивал зелёный «Москвич» с будкой, который в народе называли «воровкой».
Парторг привёз их в колхозную столовую. После щей и котлет, сметаны и пахучих ломтей хлеба ребята повеселели и навсегда оценили выгоды деревенской жизни для студентов, переживших сибирскую зиму. В конторе Василий Николаевич велел знакомиться с обстановкой и, пообещав, что вечером покажет им жильё, уехал по своим делам.
Целый день ребята лазили по каменистой сопке, на которой рос дикий абрикос. Он будто расползался от лощины наверх и обрывался у самой вершины. Оттуда открывалась вся округа. Ребята осматривали шиферные крыши домов деревни, растянувшихся вдоль берегов крохотной речушки. Сразу за деревней белели несколько домов, огороженные зелёным забором. Парторг предупредил – там застава.
С вершины сопки была видна коричневая полоса границы, за заставой – ещё какие-то военные строения, видимо, пропускной пункт. Дальше – голубела и скрывалась в туманной дали монгольская степь. Оттуда тоненькой ниточкой, местами исчезая и извиваясь, проблескивала под солнцем речушка, разделяющая здесь надвое деревню.
На следующей сопке белел огромный шар и крутился локатор.
Вечером Василий Николаевич привёл их в низенькую и почерневшую от времени избушку, которая, и к месту, и в рифму, оседала в землю у самого берега речушки. Ограждение из потемневших жердей и такой же калиткой, конечно, было одного возраста с избушкой. «Две комнаты», – уверял парторг.
На скамеечке сидела, опершись о клюку, сгорбленная старушка. Голова её была повязана старым клетчатым платком, несмотря на тёплый летний вечер. Сморщенное и смуглое лицо, просевшие впадины щёк, рта и живых, чёрных, глаз, маленькие и жилистые руки и кулачки, державшие клюку, сгорбленная спина – всё говорило о невесёлой советской судьбе колхозницы, жизнь которой скручена и выжата годами. Даже чёрная деревянная трубка, которую она держала во рту, казалась скрученной и так закалённой годами, что теперь уже ничто не могло сломать её, кроме естественной смерти.
Увидев людей, открывающих калитку, старуха оживилась и поднялась навстречу. Парторг, предостерегающе поднял руку:
– Сиди, сиди, Батуевна. Я вот к тебе женихов привёл, чтобы не скучно было. Приветишь? Колхоз тебе пособит, как и всегда.
– Во второй комнате, Василич. Какие бравые ребята! – живо и обрадованно заговорила старуха. Голос был прокуренный и хриплый, но удивила она студентов чистым русским говором без акцента. – Чего пособлять-то? Всё вроде бы у меня есть. Сена бы только моему Серко.
– Будет, Батуевна, сено по осени, – заверил ободряюще парторг. – Знакомьтесь, ребята, располагайтесь…
«Речушка, избушка, старушка», – машинально отметил про себя Витя, а Женя шепнул:
– Как в сказке о рыбаке и рыбке. Только старика с корытом не хватает.
Парторг ушёл. Старый-престарый желтый пёс даже не реагировал на посторонних, в заросшем травой и бурьяном огороде паслась серая лошадь. Над сопкой заалел закат, отражаясь в речной глади.
Ужинали во дворе, где белела маленькая кирпичная печурка и стояли грубо сколоченный столик и две скамейки.
– Буйлэсан называется наша деревня. С монгольского – дикий абрикос, русские зовут – буйлэски, – не спеша и попыхивая трубкой, говорила старуха. – Меня в деревне все Батуихой зовут. Чаюйте, ребятишки.
Она сняла с жестяной банки, в которой пропаривала байховый чай, старую рукавицу, налила себе в кружечку и, не разбавив кипятком, стала пить, время от время дуя на чёрную пенящуюся заварку.
– Чифирь, – пояснила она, увидев изумлённые глаза студентов. – Я же, ребятишки, двадцать пять лет по острогам моталась.
– В лагерях что ли были? – придя в себя и уже заикаясь, спросил Женя.
– В их самых. Крут был рябой хозяин. Вот недалеко отсюда, за буйлэсками, меня и взяли пограничники, – объяснила старуха, прокашлявшись.
В груди её хрипело и булькало. Она набила трубку из кисета, закурила и продолжала пить чифирь.
– Это в каком же году? – тоже заикаясь, спросил Витя…
– Даже не скажу в каком году! Всё у меня, ребята, смешалось и кругами, – кашляя и отгоняя рукой дым, говорила старуха.
Глаза её оживились, она ласково смотрела на ребят, которые вскрыли банку консервов и теперь ели, накладывая сайру на пышный хлеб.
– Давно это было, когда в колхозы начали сгонять. Дура я была, противилась, – рассмеялась Батуиха и снова закашляла. Когда в груди старухи затих хрип, продолжила. – Ведь говорили, что женщины будут общими…
– Как это общими? – поперхнулся Женя.
Казалось, что его русый ёжик и вовсе стал рыжим. Смуглый Витя только хмыкнул.
– Ну, всем мужикам отдадут, – спокойно объяснила старуха. – Ничего такого не произошло. У нашей семьи было десяток коней, около тридцати коров, шесть верблюдов, да больше двухсот овец. Мы сами себе батраками были. Сейчас о батраках и не слышно даже. Люди лучше прежнего живут.
– А за что же вас в тюрьму посадили? – уже освоившись и не заикаясь, поинтересовался Женя.
– Бандитка я, – посмотрела на ребят Батуиха и хрипло засмеялась. – Слово такое есть, раньше часто его в газетах писали. Это которые против кого-то или из-за границы товары возят.
– Контра – слово? – Спросил Витя.
– Вот, вот. Контра я и бандитка! – даже как-то торжественно сказала старуха.
Женька снова чуть не поперхнулся хлебом.
– Контрабандистка? – Догадался вдруг Витя.
– Вот, вот. Она самая я и есть. Контра и бандитка, осужденная Батуева Дарья Вампиловна, – подтвердила старуха. – Когда я была молодой, почти все были контрами. Ничего не понимали.
На деревню опустились сумерки, в печурке потрескивали дрова, на плите позванивал крышкой чайник. В огороде белела пятном лошадь. У ног старухи дремал желтый пёс. Жизнь становилась настолько интересной, что ребятам начинало казаться будто они здесь были всегда, а город с его голодной студенческой зимой только на миг показался и растаял, как льдинка, в этой теплой деревенской ночи.
Контра и бандитка Дарья Вампиловна достала щипцами из печурки уголёк и снова раскурила свою чёрную трубку. Почему-то с каждой новой и таинственной картиной, которые открывались в её словах, она становилась всё роднее и ближе.
– В острогах меня по-разному звали. Когда контрой, когда бандиткой, а когда и Безухой, – сказала она, раскуривая трубку. – Смеялись, когда я им ухо показывала.
С этими словами старуха развязала платок и повернулась боком так, чтобы пламя