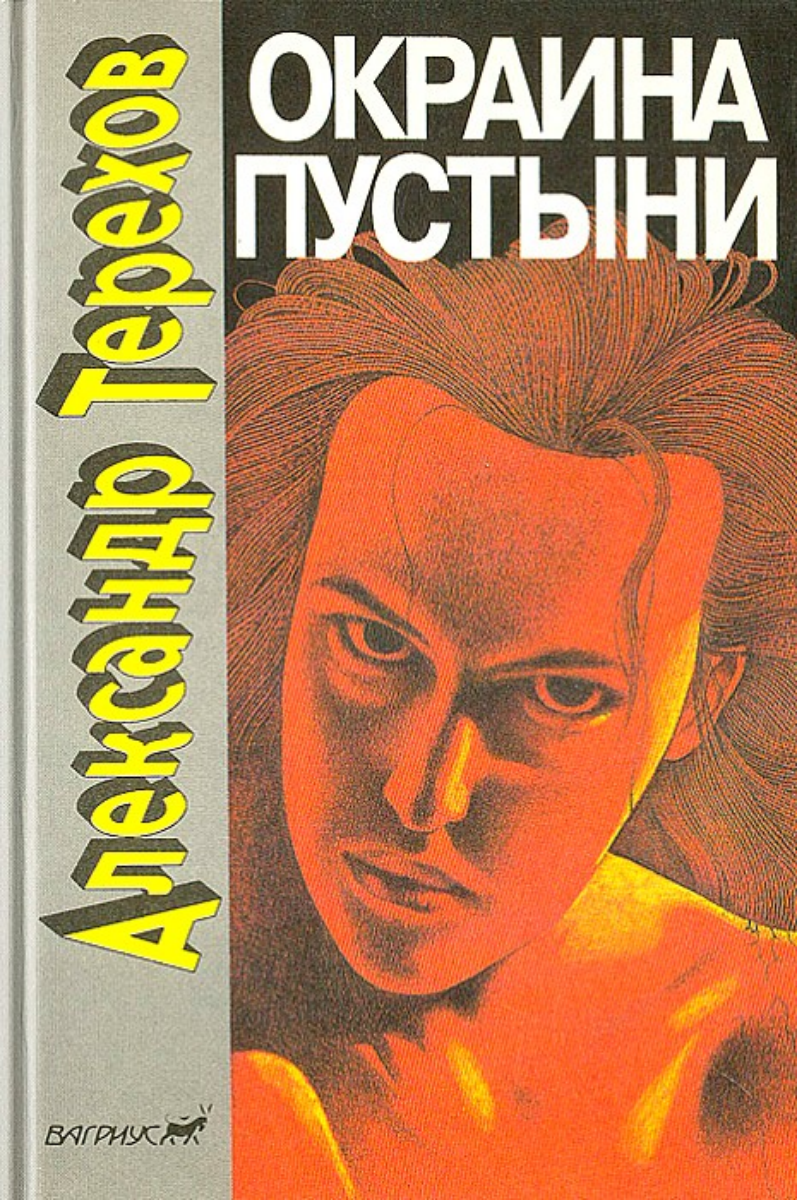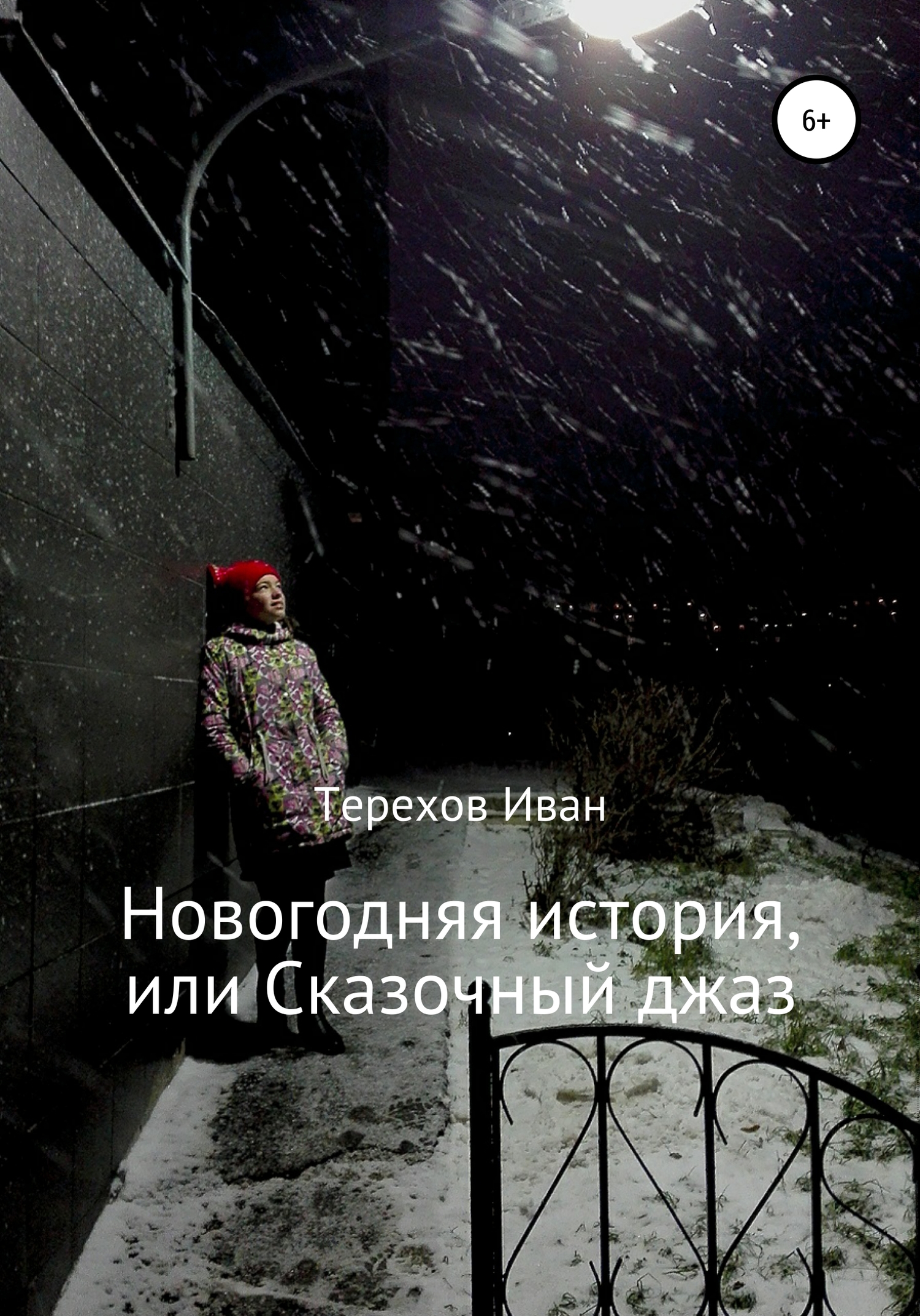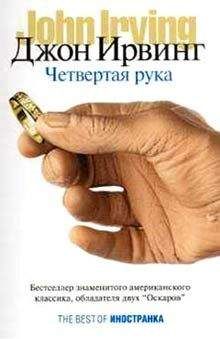это позор!
— У нас в архиве американцы нашли любительский кинофильм, где на Капри Ленин, Троцкий и голый Каганович играют в карты на животе какой-то бабы. Плохое качество, но подлинность уже установили. Да им жрать да пить надо было!
— А тебе не надо?
— Наша сила в заявлении правды! Шаг вперед— два шага назад! — выпалил это Грачев, успокоился и приземлился на место, испытующе глянув на безжизненного Симбирцева.
— Отдайте посылочки детям, а себе сколько оставил?
— Небось, не подыхал.
— Куда не ткнись: плакат и его морда. Надо собрать все в одну кучу вместе с книжками да пожечь!
— Странно, что про туалеты ничего не писал.
— Писал: партия — это ум, честь и совесть нашей эпохи! Ха-ха.
— Пусть сидят и молятся на бюсты. Похудеют-то без пайков, ножки без привычки заболят-то от дорог.
— Я б на каждой улице сделал пивбар.
— И баб. Вообще — публичный дом, это лучше.
— А пока бутылок даже нельзя сдать.
— И курить.
— Ничего не изменится, как были азиатами…
— Азиаты сейчас как раз — очень хорошо.
Вторая отличница, устав тянуть руку, осмелела и встала сама, пролепетала:
— При всей противоречивости этой личности, сложности международного положения того времени, особого характера русской революции и неоднозначности развития производительных сил и производственных отношений, уникальности сложившейся ситуации и совокупности индивидуальных качеств…
— Спасибо, — вдруг дребезжащим голосом сказала тетка. — Спасибо.
Она провела смутной ладонью по лбу. Нашла неуверенной рукой стул за спиной, придвинула его ближе, уселась. Поправила сумку рядом и потерла руки с сухим шелестом. Потрогала часы, глянув на время. И занесла после долгого припоминания сегодняшнее число в ведомости, шумно сопя носом и обижаясь на ручку — та плохо писала.
В тишине стало слышно, как тихонько плачет третья отличница— она так и не успела хоть что-то вставить.
Тетка раскладывала ведомости шеренгой, подправляла, чтобы получились ровные ряды, перекладывала, меняла местами, если номера групп лежали не в порядке возрастания. Затем занялась ручкой. В сумке нашелся ненужный измятый рецепт, и она, тряся головой, пустила ручку плясать по нему, пока та, наконец, не сдалась и не засочила из себя фиолетовую кровь — тетка удовлетворенно оставила ручку в покое и больными глазами провела по аудитории.
Все смотрели на нее.
Все ждали.
Она прокашлялась, подбородок у нее часто задергался, но она справилась с ним.
Грачев обмяк, он видел в коридоре чеченца Аслана— тот слушал нетерпеливо переминающегося Хруля. Хруль тыкал ногой батарею. После аттестации надо возвращаться в общагу. И еще. Сдать деньги на Таджикистан. Донесла деньги 418 группа. В Таджикистане вздрогнула земля. Им придется начинать все с начала. Бедные таджики! И представители других национальностей.
Еще длинный день, еще жить. И еще в общаге.
Под ногами у него тускло отсвечивала пыль, лежали обрывки бумаги и ржавый яблочный огрызок. Там были щели в паркете, а ботинки широки, как ступени, и готовы принять на себя текучий, когтистый прыжок — внутри все накренила и протащила внезапная тошнота, и он поджал онемевшие ноги, наливая их резиновой, неживой силой.
Симбирцев освободил лицо от ладоней — лицо его было пористо и бледно, как подвальный росток.
— Я-а, ребятки, — протянула вдруг тетка, и тишина стала снежной, все были под сугробом, трудно дыша, все глохли, немели, глотая открытыми ртами, — Я-а-а… Очень довольна. Вашей активностью. Молодцы.
Народ скрипнул, зашуршал, заголосил, перелился дружной рябью. Грачев и Симбирцев не шелохнулись.
— Скоты, — обронил Симбирцев.
— Мне трудно дается все это, —она вжала сложенные ладони в сухую грудь. — Я все пропускаю через сердце, надо многое успевать прочесть, услышать, сейчас столько нового, полезного… для нас. Да, а у меня сейчас, еще такая история— у меня умирает мама, и так это все накладывается, что…
— Дура, — шепнул Симбирцев. — Господи, дура...
— Все не просто, а Ленин — Ленин был единственным человеком, которому я поклонялась, которого я любила всем существом своим, всем…
— Телом, — добавил кто-то немедленно, и народ заржал и радостно задвигался.
— Дура, какая дура, — твердил неслышно Симбирцев, у него словно болели зубы, он вминал в щеку пальцы и глухо рычал. Грачев застывше улыбался.
Тетка жалко поморгала и прошелестела:
— Особенно мне понравились вот этот товарищ, этот, — показала она, по-доброму улыбаясь, на белобрысого. — Вот, вот вы, вот еще, активно работали, — последним был Грачев. — Хорошо Готовы ребята, подкованны. Много читают. Ориентируются. Мыслят оригинально. Это очень радует. Есть, значит, кому нас сменить, растет смена… Но вот двоим я поставить не могу ничего, — этими оказались Симбирцев и немедленно зарыдавшая третья отличница. — Ну зачем же так переживать? Надо было в семестр добросовестней заниматься, на лекции ходить. Раз чувствуете, что нет навыка самостоятельной работы, мало читаете — тогда ходите на лекции, записывайте, занимайтесь, А как вы думали? Не заниматься, не посещать и сдавать наравне со всеми? Так не выйдет, товарищи. Нет.
Отличница стала перекатываться по столу комкая в пальцах убористые конспекты и разрывая колготки о занозистый стул.
— Теперь. В зачетки я буду проставлять по очереди. Сразу все не идите, толпой.
Вниз, к ее столу потянулась жизнерадостная вереница.
Эта девушка поднялась, расправив хрупкие мальчишеские плечи, легкие руки отбросили волосы назад, подставив скупому зимнему свету сильную выпуклую грудь — девушка сошла вниз, махнув чуть рукой белобрысому. наклонилась на миг к тетке, та отпустила ее кивком. и вышла вон, наружу, вздрагивая сладострастно плывущим телом, она билась, как сердце, когда шла и слепила.
— В туалетик, — мертво сказал Симбирцев. — Пошла твоя… Тоже отмолчалась.
— Что? А? — встрепенулся вдруг белобрысый по только ему слышному зову. — Понял, сейчас, принесу! — схватил в охапку дубленку и полетел следом, также отпросившись у тетки умоляющим шепотом.
— Или покурить, — передумал Симбирцев.
— Вовка. Я хочу сказать тебе одну штуку. От сердца, —сказал Грачев. — Но только ты не обидься.
— Я не обижусь.
— Погоди, погоди ты, не зарекайся… Я об этом очень много думал, прежде чем понял. Все последние четыре года ушли на обдумывание. Я очень непросто пришел к итогу. И мне очень трудно все это тебе сказать.
— Я все равно не обижусь. Что бы ты ни сказал.
— Правда?
— Правда.
— Я мог бы и не говорить, но этого тебе больше никто не