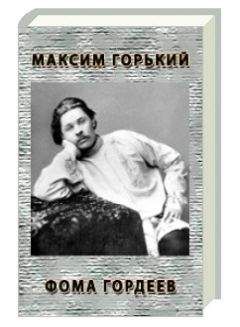Фома слушал ее речь, пристально рассматривая пальцы свои, чувствовал большое горе в ее словах, но не понимал ее. И, когда она замолчала, подавленная и печальная, он не нашел, что сказать ей, кроме слов, близких к упреку:
— Вот ты сама говоришь, что книжки ничего не стоят для тебя, а меня учишь: читай!..
Она взглянула в лицо ему, и в ее глазах вспыхнула злоба.
— О, как бы я хотела, чтоб в тебе проснулись все эти муки, которыми я живу... Чтоб и ты, как я, не спал ночей от дум, чтоб и тебе всё опротивело... и сам ты себе опротивел! Ненавижу я всех вас... ненавижу!
Она, вся красная, так гневно смотрела на него и говорила так зло, что он, удивленный, даже не обиделся на нее. Никогда еще она не говорила с ним так.
— Что это ты? — спросил он ее.
— И тебя я ненавижу! Ты... что ты? Мертвый, пустой... как ты будешь жить? Что ты дашь людям? — вполголоса и как-то злорадно говорила она.
— Ничего не дам, пускай сами добиваются...— ответил Фома, зная, что этими словами он еще больше рассердит ее.
Сила ее упреков невольно заставляла Фому внимательно слушать ее злые речи; он чувствовал в них смысл. Он даже подвинулся ближе к ней, но, негодующая и гневная, она отвернулась от него и замолчала.
На улице еще было светло, и на ветвях лип пред окнами лежал отблеск заката, но комната уже наполнилась сумраком. Огромный маятник каждую секунду выглядывал из-за стекла футляра часов и, тускло блеснув, с глухим, усталым звуком прятался то вправо, то влево. Люба встала и зажгла лампу, висевшую над столом. Лицо девушки было бледно и сурово.
— Накинулась ты на меня, — сдержанно заговорил Фома, — чего ради? Непонятно...
— Не хочу я с тобой говорить! — сердито ответила Люба.
— Дело твое... Но все-таки... чем же я провинился?
— Пойми, душно мне! Тесно мне... Ведь разве это жизнь? Разве так живут? Кто я? Приживалка у отца... держат меня для хозяйства... потом замуж! Опять хозяйство...
— А я тут при чем? — спросил Фома
— Ты — не лучше других...
— И за то виноват пред тобой?
— Ты должен желать быть лучше...
— Да разве я этого не желаю?! — воскликнул Фома.
Девушка хотела что-то сказать ему, но в это время где-то задребезжал звонок, и она, откинувшись на спинку стула, вполголоса сказала:
— Отец...
— Ну, хоть и подождал бы он, так не огорчил, — сказал Фома. — Хотелось мне еще тебя послушать... больно уж любопытно...
— А! Детишки мои, сизы голуби! — воскликнул Яков Тарасович, являясь в дверях. — Чаек пьете? Налей-ка мне, Любава!
Сладко улыбаясь и потирая руки, он сел рядом с Фомой и, игриво толкнув его в бок, спросил:
— О чем больше ворковали?
— Так, о пустяках разных, — ответила Люба.
— Да разве я тебя спрашиваю? — искривив лицо, сказал ей отец. — Ты себе сиди, помалкивай у своего бабьего дела...
— Про обед рассказывал я ей, — перебил Фома речь крестного.
— Ага! Та-ак... Ну, и я буду говорить про обед... Наблюдал я за тобой давеча... неразумно ты держишь себя!
— То есть как? — спросил Фома, недовольно хмуря брови.
— То есть так-таки просто неразумно, да и всё тут. Говорит, например, с тобою губернатор, а ты молчишь...
— Что же я ему скажу? Он говорит, что потерять отца-несчастье... ну, я знаю это!.. А что же ему сказать?
— «Так как оно мне от господа послано, то я, ваше превосходительство, не ропщу...» Так бы сказал или что другое в этом духе... Губернаторы, братец ты мой, смирение в человеке любят.
— Что же мне — овцой на него глядеть? — усмехнулся Фома.
— Овцой ты глядел, — этого не надо... А надо ни овцой, ни волком, а так — этак — разыграть пред ним: «Вы наши папаши, мы ваши детишки...» — он сейчас и обмякнет.
— Это зачем же?
— А на всякий случай... Губернатор — он, брат, всегда куда-нибудь годится.
— Чему вы его учите, папаша! — тихо и негодующе сказала Люба.
— А чему?
— Лакейничать...
— Врешь, ученая дура! Политике я учу, а не лакейству, политике жизни... Ты вот что — ты удались! Отыди от зла... и сотвори нам закуску. С богом!
Люба быстро встала и, бросив полотенце из рук на спинку стула, ушла... Отец, сощурив глаза, посмотрел ей вслед, побарабанил пальцами по столу и заговорил:
— Буду я тебя, Фома, учить. Самую настоящую, верную науку философию преподам я тебе... и ежели ты ее поймешь — будешь жить без ошибок.
Фома взглянул, как двигаются морщины на лбу старика, и они ему показались похожими на строчки славянской печати.
— Прежде всего, Фома, уж ежели ты живешь на сей земле, то обязан надо всем происходящим вокруг тебя думать. Зачем? А дабы от неразумия твоего не потерпеть тебе и не мог ты повредить людям по глупости твоей. Теперь: у каждого человеческого дела два лица, Фома. Одно на виду у всех — это фальшивое, другое спрятано — оно-то и есть настоящее. Его и нужно уметь найти, дабы понять смысл дела... Вот, к примеру, дома ночлежные, трудолюбивые, богадельни и прочие такие учреждения. Сообрази — на что они?
— Чего же соображать? — скучно сказал Фома. — Известно всем, для чего... для бедных, немощных.
— Эх, брат! Иногда всем бывает известно, что такой-то человек мошенник и подлец, а все-таки все его зовут Иваном иль Петром и величают по батюшке, а не по матушке...
— Это вы к чему?
— А всё к делу... Так вот, говоришь ты, что дома эти для бедных, нищих, стало быть, — во исполнение Христовой заповеди... Ладно! А кто есть нищий? Нищий есть человек, вынужденный судьбой напоминать нам о Христе, он брат Христов, он колокол господень и звонит в жизни для того, чтоб будить совесть нашу, тревожить сытость плоти человеческой... Он стоит под окном и поет: «Христа ра-ади!» и тем пением напоминает нам о Христе, о святом его завете помогать ближнему... Но люди так жизнь свою устроили, что по Христову учению совсем им невозможно поступать, и стал для нас Иисус Христос совсем лишний. Не единожды, а может, сто тысяч раз отдавали мы его на пропятие, но всё не можем изгнать его из жизни, зане братия его нищая поет на улицах имя его и напоминает нам о нем... И вот ныне придумали мы: запереть нищих в дома такие особые и чтоб не ходили они по улицам, не будили бы нашей совести.
— Ло-овко!— изумленно прошептал Фома, во все глаза глядя на крестного.
— Aга! — воскликнул Маякин, и глазки его сверкали торжеством.
— Как же это отец-то — не догадался? — беспокойно спросил Фома.
— Ты погоди! Ты еще послушай, дальше-то — хуже будет! Придумали мы запирать их в дома разные и, чтоб не дорого было содержать их там, работать заставили их, стареньких да увечных... И милостыню подавать не нужно теперь, и, убравши с улиц отрепышей разных, не видим мы лютой их скорби и бедности, а потому можем думать, что все люди на земле сыты, обуты, одеты... Вот они к чему, дома эти разные, для скрытия правды они... для изгнания Христа из жизни нашей. Ясно ли?
— Да-а! — сказал Фома, отуманенный ловкой речью старика.
— И еще не всё тут... еще не до дна лужа вычерпана! — воскликнул Маякин, одушевленно взмахивая рукой в воздухе.
Морщины на лице его играли; длинный, хищный нос вздрагивал, и голос дребезжал нотами какого-то азарта и умиления.
— Теперь поглядим на это дело с другого бока. Кто больше всех в пользу бедных жертвует на все эти дома, приюты, богадельни? Жертвуют богатые люди, купечество наше... Хорошо-с! А кто жизнью командует и устраивает ее? Дворяне, чиновники и всякие другие — не наши люди... От них и законы, и газеты, и науки — всё от них. Раньше они были помещиками, теперь земля из-под них выдернута, они на службу пошли... А кто, по нынешним дням, самые сильные люди? Купец в государстве первая сила, потому что с ним — миллионы! Так ли?
— Так! — согласился Фома, желая скорее услышать то недоговоренное, что сверкало уже в глазах крестного.
— Так вот ты и понимай, — раздельно и внушительно продолжал старик, — жизнь устраивали не мы, купцы, и в устройстве ее и до сего дня голоса не имеем, рук приложить к ней не можем. Жизнь устроили другие, они и развели в ней паршь всякую, лентяев этих, несчастненьких, убогеньких, а коли они ее развели, они жизнь засорили, они ее испортили — им, по-божьи рассуждая, и чистить ее надлежит! Но чистим ее — мы, на бедных жертвуем — мы, призираем их — мы... Рассуди же ты, пожалуйста: зачем нам на чужое рубище заплаты нашивать, ежели не мы его изодрали? Зачем нам дом чинить, ежели не мы в нем жили и не наш он есть? Не умнее ли это будет, ежели мы станем к сторонке и будем до поры до времени стоять да смотреть, как всякая гниль плодится и чужого нам человека душит? Ему с ней не сладить, — средств у него нет. Он к нам и обратится, скажет: «Пожалуйте, господа, помогите!» А мы ему: «Позвольте нам простору для работы! Включите нас в строители оной самой жизни!» И как только он нас включит — тогда-то мы и должны будем единым махом очистить жизнь от всякой скверны и разных лишков. Тогда государь император воочию узрит светлыми очами, кто есть его верные слуги и сколько они в бездействии рук ума в себе накопили... Понял?