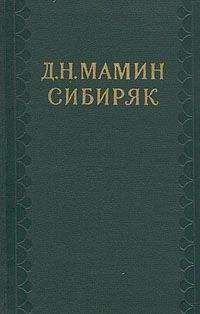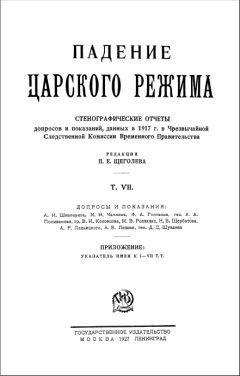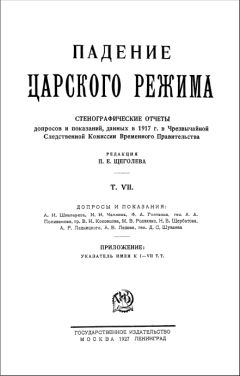- В Башкири свой атаман объявился, - рассказывали беглецы. - Из тептярей он, Салават Юлаев... С ним великое множество конников. Все грабят, жгут, зорят...
Но Башкирь была не страшна, потому что она хозяйничала в своих горах и по ту сторону Урала, куда наступали пугачевские скопища, пролагая себе кровавый путь. Страшнее был новый пугачевский атаман Тимошка Белоус, который грозился разнести Прокопьевский монастырь по кирпичику. Он прославился еще в монастырскую дубинщину, и за ним свои крестьяне шли толпами. Рассказывали, что при Белоусе главным советником состоит слепец Брехун, томившийся с ним вместе в усторожской тюрьме, а писчиками Терешка и дьячок Арефа. Последнее смущало монастырскую братию больше всего. Как это могло случиться, чтобы смирный дьячок пошел на такое богопротивное дело? Монастырская братия негодовала, и защищал Арефу только один инок Гермоген.
- Не своею волей Арефа подметные письма пишет, - говорил он. Застращали его, ну, он и впал в малодушие. Жив смерти боится...
- В животе и смерти один господь волен...
- Хорошо так-то говорить, сидя за стеной. Я-то уж хорошо знаю Арефу. Не таковский человек, штобы назло, а так уже судьба выдалась злосчастная... Напринимался он муки и в Усторожье и у Гарусова.
- На одной цепи у Полуехта Степаныча сидел с Белоусом: вот и сосватались в тюрьме. Не покрывай Арефу, Гермоген, не гоже... Из пушки его мало застрелить за его воровство.
О Белоусе было известно все. Ходил он в белом полушубке из домашней овчины с перевязью из полотенца через левое плечо; на голове казачья шапка с красным верхом. За ним вели двух гнедых иноходцев, на которых он выезжал. Ничего не пил Белоус, не льстился на баб и девок и держал себя очень сурово, особенно ежели "встреча" случалась. Первым летел Белоус в огонь и с пленными расправлялся коротко. Повесить - и весь сказ. Все это знали, и все боялись грозного атамана. Мало с кем он разговаривал, кроме слепого Брехуна, подучивавшего атамана на какое-нибудь воровство. Главная шайка сбилась еще под Баламутским заводом и теперь катилась к монастырю, как ком снега. К ней пристала почти поголовно вся бывшая монастырская вотчина. Белоус сделал главную стоянку в Черном Яру, повыше монастыря верст на тридцать. Высокое было место, усторожливое и для шайки самое способное.
Рассказывали, что Белоус не один раз наезжал в Служнюю слободу для каких-то тайных переговоров со своими единомышленниками и что будто его лошадь видели привязанной у задворков попа Мирона. Последнее уже было совсем несообразно. Политика Белоуса, впрочем, была понятна. Ему хотелось переманить на свою сторону Служнюю слободу и под ее прикрытием начать осаду монастыря. Первым догадался об этом инок Гермоген и нарочито отправился к попу Мирону, чтобы выпытать у него, как и что. Сумрачен вернулся Гермоген в монастырь и сказал только одному Пафнутию, что дело скверно.
- Плохая надежда на Служнюю слободу, отец келарь, - говорил он. Смущает мужиков Белоус, а поп Мирон древоголов вельми...
- А што он говорит?
- Вот то-то и дело, что отмалчивается поп Мирон не к добру. Нечисто дело, отец келарь... Только и Белоус ничего не возьмет: крепок монастырь, а за нас предстательство преподобного Прокопия.
Больным местом готовившейся осады была Дивья обитель, вернее сказать сидевшая в затворе княжиха, в иночестве Фоина. Сам игумен Моисей не посмел ее тронуть, а без нее и сестры не пойдут. Мать Досифея наотрез отказалась: от своей смерти, слышь, никуда не уйдешь, а господь и не это терпел от разбойников. О томившейся в затворе Охоне знал один черный поп Пафнутий, а сестры не знали, потому что привезена она была тайно и сдана на поруки самой Досифее. Инок Гермоген тоже ничего не подозревал.
- Обитель захватят воры прежде всего, - говорил Гермоген, рассматривая с башни позицию. - Ловкое место, штобы наш монастырь осаждать... Сжечь бы ее надо было.
- Указу нет относительно затвора, ничего не поделаешь, - повторял Пафнутий с сокрушением. - Связала нас княжиха по рукам и по ногам, а то всех сестер перевели бы к себе в монастырь. Заодно отсиживаться-то...
В большой тревоге встретила монастырская братия рождество, потому что на праздниках ждали наступления шайки Белоуса, о которой имели точные сведения через переметчиков. Атаман готовился к походу и только поджидал пушек с Баламутского завода.
Так прошли первые дни праздника. Тихо было в Служней слободе, как в будень день. Никому праздник на ум не шел. Белоусовские воры начали появляться в Служней слободе среди белого дня, подъезжали к самым монастырским стенам и кричали:
- Эй вы, вороны, сдавайтесь батюшке Петру Федорычу! А то силой возьмем: хуже будет. Игумен бежал, а вам нечего больше ждать... На чужом месте сидите!
Мятежники пускали в монастырь стрелы с подметными письмами, в которых ругали игумена Моисея. Иноки отписывались и называли мятежников ворами.
"Какой у вас Петр Федорыч? - писал им отписку келарь Пафнутий. - Царь Петр III помре божиею милостью уже тому время дванадесять лет... А вы, воры и разбойники, поднимаете дерзновенную руку против ее императорского величества и наследия преподобного Прокопия, иже о Христе юродивого. Сгинете, проклятые нечестивцы, яко смрад, а мы вас не боимся. В остервенении злобы и огнепальной ярости забыли вы, всескверные, страх божий, а секира уже лежит у корня смоковницы... Тако будет, яко во дни нечестивого Ахава. Буди..."
Монахи боялись за крещенье, когда из монастыря совершался церковный ход на иордань, устраиваемую на Яровой. Но и крещенье прошло благополучно, хотя Гермоген и просидел все время на колокольне, чтобы вовремя подать знак. Враг появился только на третий день крещенья. Погода была тихая, и в воздухе крутился легкий снежок. Передовые конники показались с нагорной стороны, и монастырский колокол ударил набат. Поднялись все на ноги. Монахи расставлены были вперед по убойным местам у пушек и на бойницах. Распоряжался всем инок Гермоген, рыжие волосы которого мелькали везде. Простой народ высыпал тоже на стены. Бабы причитали и плакали. А гроза все надвигалась... За передовыми конниками показалась густая ватага, которую вел сам Белоус. За ней везли на санях тяжелые пушки и всякий воинский припас, а там вдали шла несметная пешая толпа, вооруженная чем попало. С колокольни видно было дорогу верст на пять, и вся она была усыпана мятежниками, двигавшимися одною живою черною лентой, точно муравьище. Келарь Пафнутий долго смотрел на эту картину и упал духом. Кабы еще игумен был, так все же легче.
- И без игумена управимся, - утешал его Гермоген. - Он нам из Усторожья подмогу приведет.
Как предполагал Гермоген, так и случилось. Мятежники первым делом заняли Дивью обитель, а потом остановились. Служняя слобода находилась в страшном волнении, но к монастырю никто и не думал идти. Между слобожанами и атаманом велись какие-то переговоры, а потом на деревянной церкви в Служней слободе раздался трезвон, и показался церковный ход с попом Мироном во главе. Инок Гермоген так и замер и даже протер себе глаза - не во сне ли все это делается. Нет, колокола радостно гудели, и Белоус был встречен честь честью, как воевода. К его шайке примкнула вся слобода: куда поп, туда и приход. А потом началось веселье. Всех слобожан остригли в кружок, на казацкий лад. При занятии Дивьей обители оказали сопротивление только профосы и сержант Сарычев, сторожившие княжиху в затворе. Казаки двух профосов изрубили, а всех остальных забрали живьем. Белоус сам вошел в затвор, где неисходно томилась именитая узница.
- Батюшка-царь Петр Федорыч жалует тебя волей, - заявил он. - По злобе ты засажена была сюда...
Узница отнеслась к своей воле совершенно равнодушно и даже точно не поняла, что ей говорил атаман. Это была средних лет женщина с преждевременно седыми волосами и точно выцветшим от долгого сидения в затворе лицом. Живыми оставались одни глаза, большие, темные, сердитые... Сообразив что-то, узница ответила с гордостью:
- Я хочу, чтобы сам царь меня пожаловал, а не псарь.
Она даже засмеялась таким нехорошим смехом. Вскипел Белоус, но оглянулся и обомлел. В углу, покрытая иноческим куколем, стояла с опущенными глазами Охоня... Дрогнуло атаманское сердце, и не поверил он своим глазам.
- Ты... ты кто такая будешь? - тихо спросил он.
- А все та же... была отецкая дочь...
Ударил себя в грудь атаман, и глаза его сверкнули, а потом застонал он, зашатался и упал на скамью. Вовремя прибежал за ним слепец Брехун с поводырем и вывел атамана из затвора.
- Не время теперь девок разглядывать, - ворчал он. - Была Охоня, да на воеводском дворе вся вышла.
Кинулся было Белоус назад в затвор, да Брехун повис у него на руке и оттащил. Опять застонал атаман, но стыдно ему сделалось своих, а обитель кишела народом. А Охоня стояла на том же месте, точно застыла. Ах, лучше бы атаман убил ее тут же, чем принимать позор. Брехун в это время успел распорядиться, чтобы к затвору приставить своих и беречь затворниц накрепко.