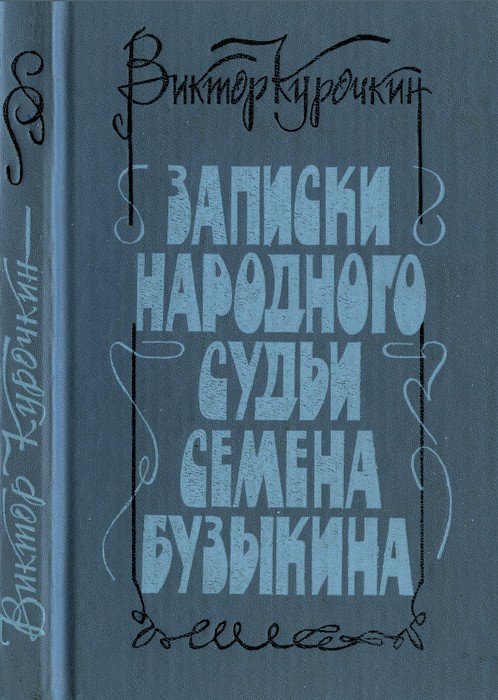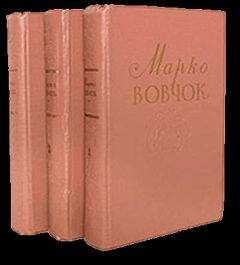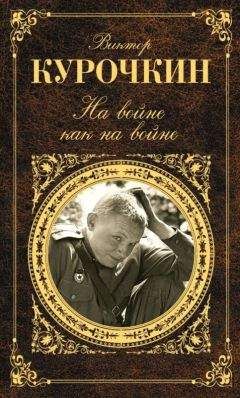время неудобно было на нее смотреть. Во всем: и в перешитом черном кашемировом платье, и в старомодных с высокой шнуровкой румынках, и в синем застиранном платочке проглядывала вопиющая бедность.
— Звали? Ну вот я и пришла, — сказала она звонко, весело, обнажив плотную белую полоску мелких зубов.
Кодыков, опустив голову и царапая ногтем стол, глухим голосом просипел:
— Надо бы на заем подписаться, Елена Григорьевна.
Елена Григорьевна, закинув голову, громко рассмеялась.
— И за этим вы меня звали?
— Ну хоть на пятьдесят рублей, Леночка, — умоляюще глядя на Саликову, сказала Чекулаева.
— В колхозе получишь что-нибудь… Продашь что-нибудь, — неуверенным голосом посоветовал Кодыков.
Она пристально и насмешливо посмотрела на Кодыкова.
— Ну и как у тебя, старшина, только язык поворачивается? Сам знаешь, что мы получаем в колхозе. А продавать мне теперь уж больше нечего. Чиста, как росинка. Разве что кто-нибудь детишек купит. Купите, товарищ судья?! — озоровато поводя глазами, обратилась она ко мне. — Не хотите? Жаль. А девочки у меня хорошие, славные, — добавила она с легкой, но грустной улыбкой.
Сколько мы ее ни уговаривали, ни убеждали, сколько ни давали ей обещаний о помощи, она на все только улыбалась и говорила: «Нет, нет и нет». Наконец, видимо, все это ей надоело, и она предложила Кодыкову невероятное и страшное условие:
— Старшина, подари мне револьвер, и подпишусь, — серьезно заявила Саликова. И не дав нам опомниться от изумления, добавила вполголоса, словно доверяя свою задушевную тайну: — Уж очень мне жить тяжело.
Взяв девочек за руки, Елена Григорьевна пошла, но у двери остановилась, приказала девочкам идти домой, а сама вернулась, ни на кого не глядя, взяла подписной лист, поставила против своей фамилии двадцать пять рублей и, не сказав ни слова, ушла, чему-то грустно и мило улыбаясь.
К четвертому дню подписки мы выжали все, что только можно. А райком требовал: «Давай, давай, давай». И тогда мы бросились на последний «опорный пункт» — колхоз «Самодеятельность». Его мы берегли на крайний случай. Взять этот опорный пункт было одновременно и легко, и трудно. Колхоз «Самодеятельность», а проще — выселки Завал, затерялся в океане непроходимых болот. Дорог туда — никаких, ни зимой, ни летом. Зато народ там подписывается на заем с большим удовольствием и на любую сумму. По крайней мере, так меня уверял избач Костя Локотков.
О выселке Завал ходят самые невероятные легенды. Впрочем, некоторые из них достоверны. Так, колхоз «Самодеятельность» за все свое существование не дал государству ни горсти зерна, ни корзины картофеля.
Достоверно и то, что этот колхоз застыл на своей первоначальной форме коллективизации. Там раз и навсегда установилось добровольное и совместное товарищество по обработке земли. Пашут, сеют они сообща. А как подходит уборка, весь урожай, будь то рожь или картофель, председатель делит на полосы и командует: «Это — Дарья, а это — Марья, тебе». Если Марья с Дарьей не согласны, то спор решается жребием. Вот так заваловцы и живут, а соседние колхозы выполняют за них поставки и недоимки.
С председателем колхоза «Самодеятельность» я познакомился прошлой зимой, случайно.
Секретарь райкома свое обещание сдержал и назначил меня руководителем кружка по изучению краткой биографии Сталина в селе Любятино. Это доверие меня не очень обрадовало, но и не так уж огорчило. И раз в две-три недели я выезжал в Любятино. За что райком ставил меня в пример другим пропагандистам.
Обычно до Любятина я добирался попутным транспортом. И в тот день я пошел к чанной с надеждой, поймать подводу из тех краев. Около чайной мерзла на морозе низкорослая лохматая лошаденка с пустой торбой на морде. В дровнях на плетенке валялся самотканый половик и стояла огромная банка с керосином. Сам хозяин — высокий старик, в длинном, до пят, тулупе — прямо у стойки пил водку. Сдвинутая на затылок великолепная ушанка из куницы и развеселые глуповатые глаза придавали ему вид отчаянного задиры. На мои вопросы: «Откуда?» и «Можно ли доехать до Любятина?» он зарокотал и засипел, как граммофонная труба:
— Айда, валяй, поехали…
Но, прежде чем мы сели и поехали, прошло немало времени, в течение которого он выпил неимоверное количество водки и скверного пива. После каждого выпитого стакана он, как веслами, взмахивал длинными руками и с чугунным гулом хлопал ими по полам тулупа.
— Валяй, цеди еще штукенцию, — и все норовил обнять буфетчицу. Та отмахивалась от него, как от овода, и, морщась, цедила стакан за стаканом. Он пил и беспрерывно сыпал пословицами с поговорками, переиначенными на свой лад: «Баба с возу — на душе легче», «Тише будешь — дальше едешь», «И на солнце бывают пьяные», «Топоры до времени» — вместо «до поры до времени…». Бог знает, сколько бы он еще выпил водки и исковеркал пословиц, если бы не кончились деньги. Он обшарил карманы и гулко хлопнул рукавами по тулупу: — Ну, теперича все. Чист як агнец. Поехали.
Дорогой я узнал, что он — Петров, председатель «Самоделки», приезжал в район за инструкциями и керосином. Когда на его вопрос: «Кто ты?» — я назвался судьей, он уставился на меня, как на заморское чудо. С минуту подозрительно и тупо изучал меня, а потом громко, с помощью двух пальцев, высморкался и сказал:
— Ну и ну. Вот так дела, — засопел носом и вдруг, наклонившись, обдал меня густым сивушным перегаром: — Не люблю судей и всех прокуроров.
Столь прямое и резкое откровение меня почему-то покоробило. Я поднял воротник шубы и отвернулся. Как бы ни был пьян Петров, он все же сообразил, что обидел человека. И, чтобы сгладить свою вину, осторожно потянул меня за рукав.
— Слышь, судья… Ты не обижайся. У меня против вас вот тут в груди камень застрял. Ты слышь, меня судили. А за что? — и усмехаясь, закачал головой. — За честность… за совесть.
Но за что конкретно, я так и не мог понять. Видимо, и этот луженый желудок изнемог. Движения председателя стали ленивыми, язык с трудом выковыривал слова, голова дергалась, словно на шарнирах, и вдруг, громко икнув, Петров неуклюже повалился на бок.
Я взял выпавшие из его рук вожжи и стал погонять лошадь. Впрочем, даже этого и не требовалось. Лошадь сама великолепно знала дорогу и торопилась засветло в теплый хлев. Петров проспал всю дорогу. Его обросшее волосами лицо заиндевело, как намыленная мочалка. Когда мы подъезжали к Любятину, словно его кто пырнул в бок: он вскочил, смахнул с лица иней и, хлопнув рукавицами, подмигнул мне:
— Шкета бы раздавить! И тогда цены